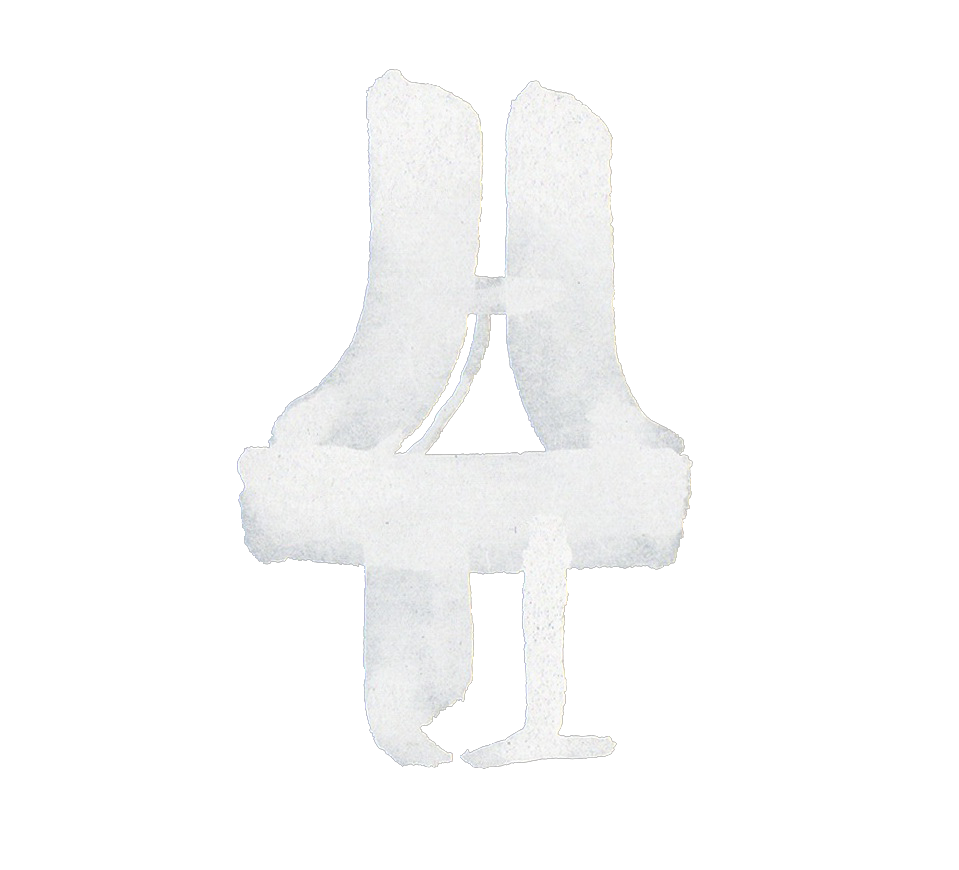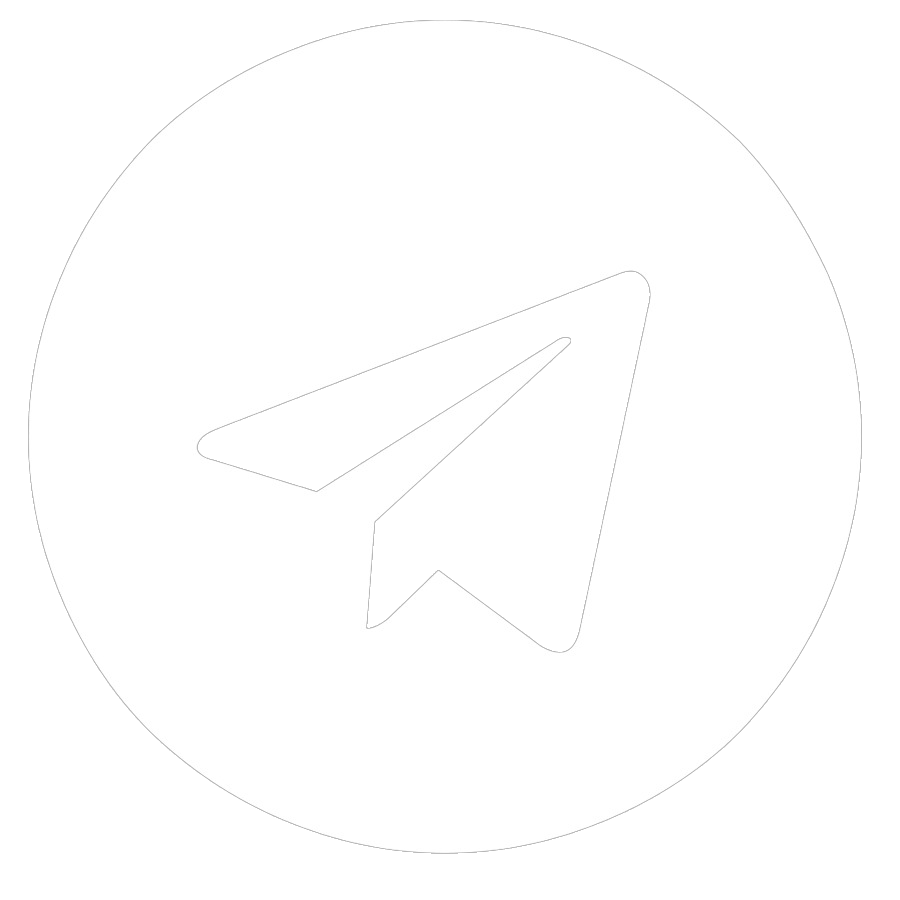Все 1930-е годы они скрывались по чужим квартирам, устраивали собрания, обсуждали на них свержение правительства и готовили тайные выборы патриарха Русской Церкви. Филиалы их организации создавались почти в каждом регионе Советского Союза, а в подпольную деятельность вовлекались городские и сельские жители
В списках подозреваемых значились простые священники, их жёны и дети. Для НКВД они были участниками подпольной религиозной организации «Истинно-православная церковь». И на её след им удалось напасть в старом провинциальном Муроме.
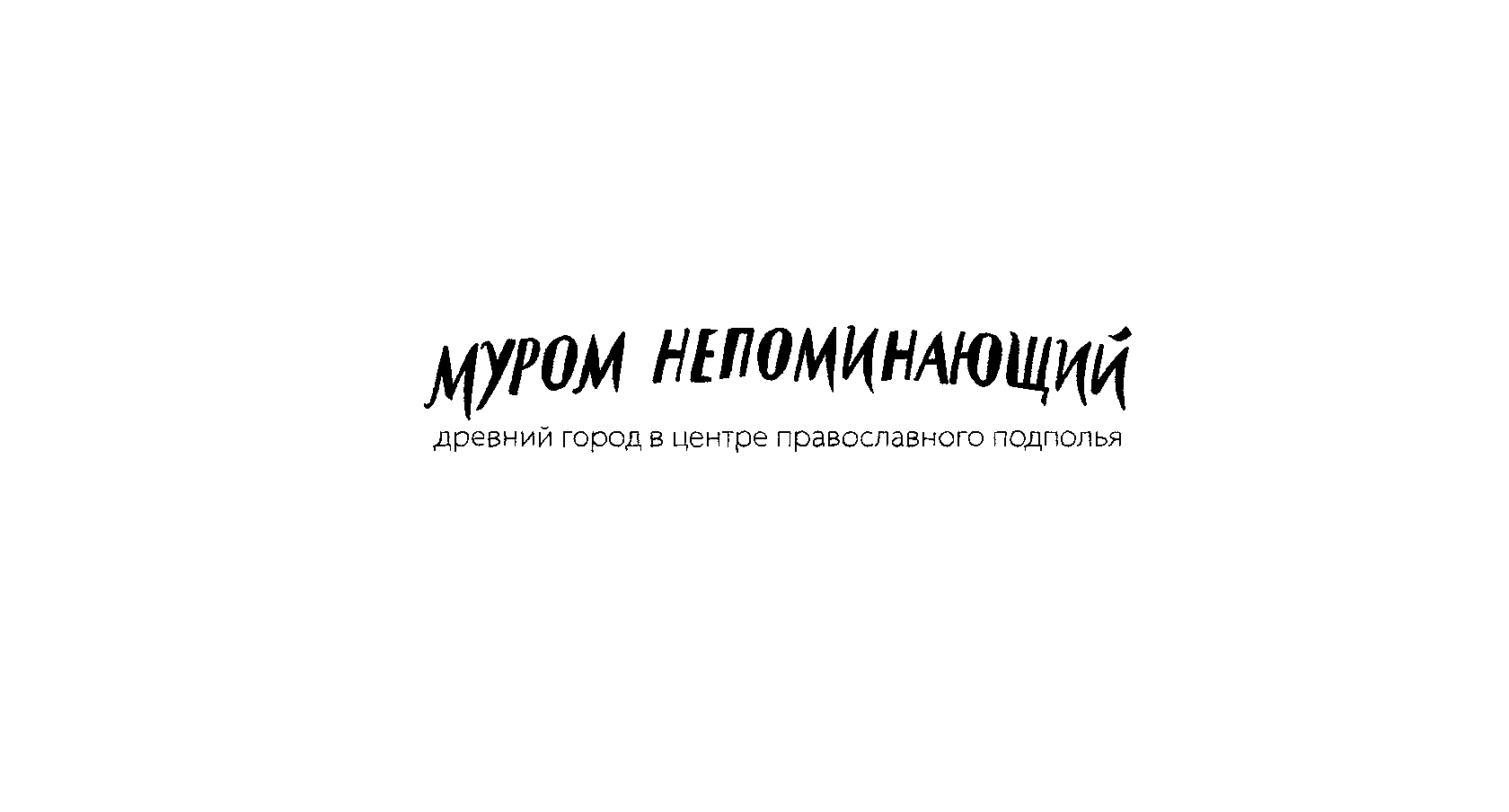
лице Его Святейшества и Синода было лишено регистрации. Сам Патриарх Тихон умер от сердечной недостаточности в 1925-м, находясь под следствием и почти уже приговоренный к «высшей мере наказания» за «сношения с иностранными государствами». Перед смертью он, словно предрекая будущее Церкви, произнёс:
— Теперь я усну… крепко и надолго. Ночь будет длинная, тёмная-тёмная.
Опустевший патриарший престол должен был занять местоблюститель Тихона – Пётр Полянский, но и его почти сразу после смерти Патриарха взяли под стражу и отправили в ссылку на берег Обской губы в посёлок Хэ. На свободе остался лишь заместитель патриаршего местоблюстителя Сергий Страгородский, митрополит Горьковский (Нижегородский) – по сути, заместитель заместителя патриарха. К такому положению дел Церковь оказалась не готова: полномочия Страгородского не были чётко определены и единого мнения на этот счёт в среде священнослужителей не сформировалось. Страгородский же посчитал себя полноценным главой, имеющим право принимать самостоятельные решения за всю Русскую Православную Церковь. Но это оспаривали другие митрополиты, претендовавшие на власть. Некогда единая организация раскололась на множество критически настроенных группировок, из-за чего в среде священнослужителей началась смута.
— Теперь я усну… крепко и надолго. Ночь будет длинная, тёмная-тёмная.
Опустевший патриарший престол должен был занять местоблюститель Тихона – Пётр Полянский, но и его почти сразу после смерти Патриарха взяли под стражу и отправили в ссылку на берег Обской губы в посёлок Хэ. На свободе остался лишь заместитель патриаршего местоблюстителя Сергий Страгородский, митрополит Горьковский (Нижегородский) – по сути, заместитель заместителя патриарха. К такому положению дел Церковь оказалась не готова: полномочия Страгородского не были чётко определены и единого мнения на этот счёт в среде священнослужителей не сформировалось. Страгородский же посчитал себя полноценным главой, имеющим право принимать самостоятельные решения за всю Русскую Православную Церковь. Но это оспаривали другие митрополиты, претендовавшие на власть. Некогда единая организация раскололась на множество критически настроенных группировок, из-за чего в среде священнослужителей началась смута.
Самым заметным противником канонической церкви стало движение «обновленцев», или «Живая Церковь», созданная ещё при патриархе Тихоне в 1922 году бывшим черносотенцем, протоиереем Александром Введенским. Её последователи приняли предложение Льва Троцкого и согласились сотрудничать с НКВД, за что, в отличие от РПЦ, получили официальную регистрацию и право стать Высшим церковным управлением. Одобренные правительством «обновленцы» привлекли к себе напуганных прихожан, но чувство безопасности было мнимым – «Живая Церковь» на несколько лет стала послушным инструментом в руках органов ОГПУ, контролирующих её священников и храмы.
Советское правительство предложило официальный юридический статус и Русской Православной Церкви – взамен на выполнение Страгородским нескольких требований. Власти хотели, чтобы Патриархия согласовывала все кадровые назначения епископов с начальником шестого отделения ОГПУ по борьбе с православной церковью и иными конфессиями и сектами Евгением Тучковым, осудила зарубежные епархии РПЦ, а также выпустила документ, в котором утвердила бы лояльность коммунистическому строю. Страгородский согласился лишь на последнее. Такой ответ правительство не устроил – священника арестовали и четыре месяца продержали в застенках, пока он всё же не согласился на полное сотрудничество.
В итоге 16 июля 1927 года Страгородский, под давлением органов Госбезопасности, пошёл на сделку с большевиками и выпустил Декларацию. Он понял, что отныне конфликтовать с государством не удастся: карательным органам ничего не стоило устранить первым делом его самого, а после взяться за уничтожение всей Церкви. Только идя на компромисс, можно было сохранить существование религиозной организации в Советском Союзе. Но этого не смогли понять другие священнослужители. Уступки Страгородского многие восприняли как предательство, а в знак своего несогласия стали «непоминающими» – отказались во время богослужений поминать не только Советскую власть, но и «прислуживающего» ей Сергия Страгородского.
Советское правительство предложило официальный юридический статус и Русской Православной Церкви – взамен на выполнение Страгородским нескольких требований. Власти хотели, чтобы Патриархия согласовывала все кадровые назначения епископов с начальником шестого отделения ОГПУ по борьбе с православной церковью и иными конфессиями и сектами Евгением Тучковым, осудила зарубежные епархии РПЦ, а также выпустила документ, в котором утвердила бы лояльность коммунистическому строю. Страгородский согласился лишь на последнее. Такой ответ правительство не устроил – священника арестовали и четыре месяца продержали в застенках, пока он всё же не согласился на полное сотрудничество.
В итоге 16 июля 1927 года Страгородский, под давлением органов Госбезопасности, пошёл на сделку с большевиками и выпустил Декларацию. Он понял, что отныне конфликтовать с государством не удастся: карательным органам ничего не стоило устранить первым делом его самого, а после взяться за уничтожение всей Церкви. Только идя на компромисс, можно было сохранить существование религиозной организации в Советском Союзе. Но этого не смогли понять другие священнослужители. Уступки Страгородского многие восприняли как предательство, а в знак своего несогласия стали «непоминающими» – отказались во время богослужений поминать не только Советскую власть, но и «прислуживающего» ей Сергия Страгородского.
начале 1920-х годов Русская Православная Церковь оставалась влиятельнейшей религиозной организацией, но её юридическое положение сильно пошатнулось. Центральное церковное управление в
В
Напуганная паства стала уходить к «обновленцам», священнослужители окончательно разочаровались в новом лидере церкви, атеистическое государство диктовало свои условия – обстановка накалялась. А Сергий Страгородский решил попытаться укрепить свою церковную власть. 27 апреля 1934 года он созвал Временный патриарший Священный синод, чтобы стать на нём митрополитом Московским и получить титул «блаженнейший». Титул был понятным для всех знаком – раньше «блаженнейшими» называли лишь единоличных лидеров автокефальных церквей. Решив формальные вопросы, Страгородский распустил Синод и остался единственным официальным главой Русской Церкви. Но власть только обременила его: Страгородский стал подозрительным и всё меньше доверял ближайшему окружению. Рядом с собой он видел не только критически настроенных священнослужителей, но и тайных агентов НКВД. У этих страхов были основания: чекисты и правда подбирались всё ближе к главе Русской Церкви. Его приближённый, викарный епископ Сергий Воскресенкий, уже был завербован, о чём ходили слухи даже за пределами Московской патриархии.
Теряла Церковь своё некогда мощнейшее влияние и среди простых людей. В 1932 году вокруг антирелигиозной газеты «Безбожник» возникло общественное добровольческое движение «Союз воинствующих безбожников». В него вошло более 5,5 миллионов враждебно настроенных атеистов, которые провозгласили начавшуюся вторую пятилетку – «Пятилеткой безбожия». Они составили подробный план искоренения религии из Советского Союза, продумали всё до мелочей: когда закрыть церковные школы, как уничтожить монастыри и храмы, куда сослать священников, монахов и наиболее истово верующих. Поблажек не давали даже «обновленцам» – любое проявление религии запрещалось. И хотя план «безбожников» не был официальным документом, ему аккомпанировала государственная политика, вдруг сменившая курс на открытые репрессии духовенства.
Теряла Церковь своё некогда мощнейшее влияние и среди простых людей. В 1932 году вокруг антирелигиозной газеты «Безбожник» возникло общественное добровольческое движение «Союз воинствующих безбожников». В него вошло более 5,5 миллионов враждебно настроенных атеистов, которые провозгласили начавшуюся вторую пятилетку – «Пятилеткой безбожия». Они составили подробный план искоренения религии из Советского Союза, продумали всё до мелочей: когда закрыть церковные школы, как уничтожить монастыри и храмы, куда сослать священников, монахов и наиболее истово верующих. Поблажек не давали даже «обновленцам» – любое проявление религии запрещалось. И хотя план «безбожников» не был официальным документом, ему аккомпанировала государственная политика, вдруг сменившая курс на открытые репрессии духовенства.
Для легализации церковных общин власть выдвинула такие требования, которые было почти невозможно выполнить, а назначенное налоговое обложение – уплатить. Приходилось проводить богослужения, нарушая закон. Это каралось арестами и закрытием храмов. Монахи, изгнанные из своих монастырей, создавали подпольные общины в коммунальных квартирах, а верующие миряне открывали церкви в собственных домах. Всё делалось в строжайшем секрете, но в крупных городах церковные сборища так или иначе выслеживали и ликвидировали сотрудники НКВД. А вернувшимся из лагерей ГУЛАГа священнослужителям вовсе запрещалось приближаться к большим населённым пунктам ближе, чем на 101 километр. Оставаться в больших городах становилось опасно.
Православная церковь в поисках спасения бежала в провинцию, где ещё сохранились древние монастыри и храмы. Подходящим местом оказался Муром, ставший одним из главных оплотов православия. В нём к началу 1930-х годов развернулась одна из крупнейших подпольных церковных сетей со своими организаторами, паролями-явками, потайными комнатами и вечным бегством от слежки сотрудников органов Госбезопасности.
Этап I
Чужая вдова
В сани полетели с плеч едко пахнущие задубевшие тулупы, которыми женщины тут же стали обкладывать как досками двух мальчиков, сонно лупящих глаза на давно знакомые лица. Сельские бабы заворачивали в платки варёные яйца, хлеб, невпопад совали свёртки под локоть или прямо в руки, торопливо завязывающие узлы.
— Всё, залазь, родная! Но! Пошла!
Телега тронулась. Декабрьское солнце 1930-го только начинало высовывать макушку из-за покатых крыш села Дивеево, тянуться бледными руками к укатанной дороге, по которой саням предстояло проскакать 64 километра – в Арзамас, куда в здание местного ГПУ несколько дней назад тридцатичетырёхлетнюю Татьяну Арцыбушеву вызвали вместе с детьми.
— Всё, залазь, родная! Но! Пошла!
Телега тронулась. Декабрьское солнце 1930-го только начинало высовывать макушку из-за покатых крыш села Дивеево, тянуться бледными руками к укатанной дороге, по которой саням предстояло проскакать 64 километра – в Арзамас, куда в здание местного ГПУ несколько дней назад тридцатичетырёхлетнюю Татьяну Арцыбушеву вызвали вместе с детьми.
яксандровна, кутай рёбят-то в тулуп! Помёрзнут ведь, голые совсем ведь! Ентакий мороз-то!
—Л
Внуков дождались только от младшего сына Пети, окончившего правоведческий корпус и познакомившегося в госпитале во время Первой мировой войны со своей будущей женой Татьяной, которую в 1917 году он и привёз в дивеевский дом с новорождённым Серафимом на руках. Через два года у них родился и младший сын Алексей, а ещё через два – разразился настоящий голод. Голодала семья, голодал монастырь, голодали все окрестные сёла. Зимой было особенно туго, и тогда Пётр собирал по дому самые разнообразные вещи и ехал по деревням менять их на любую снедь, и снова собирал, и снова ехал. А под весну слёг: то жар, то озноб. Таня держала на руках полуторагодовалого Алёшу и трёхлетнего Серафима, а отец, умирая, наставлял: «Тасечка, держи детей ближе к добру и Церкви».
Арцыбушевы поселились в Дивеево в начале ХХ века: в 1915 году глава семейства, Петр Михайлович, ликвидировал своё нотариальное дело в Петербурге, бросил всё и поселился вместе с женой в небольшом селе у стен Дивеевского женского монастыря, купив участок земли с домиком. Со временем к дому были пристроены анфилада из семи комнат, кухня с русской печью, баня, сарай, в котором поселилась корова Кукушка, и сводчатый погреб, в котором разместились кадушки с огурцами и мочеными яблоками, сорокавёдерные бочки для квашеной капусты и солёных груздей. Из окон комнат виднелись золочёные маковки куполов, сквозь бревенчатые стены слышались колокола церкви Казанской Божией Матери, расположившейся в трёхстах метрах от крыльца; а мимо арцыбушевского сада ходили монахини. Они-то и стали примером для дочерей Петра Арцыбушева – Наталия и Мария впоследствии ушли в Дивеевский монастырь и стали схимонахиней Митрофанией и монахиней Варварой.
Но сотрудники Госбезопасности о последней воле умирающего не знали и спустя десять лет вызвали вдову в Арзамас, где следователь, поглядывая на отрешённо стоящую перед ним молодую женщину, читал с листа:
— Татьяна Александровна Арцыбушева, вдова расстрелянного вредителя М.П. Арцыбушева...
«М.П.» – Михаил Петрович – Арцыбушев, директор рыбных промыслов Волги и Каспия, был родным братом мужа Татьяны и обожаемым дядей Мишей для её мальчиков. После смерти отца и брата, он остался единственным мужчиной в роду Арцыбушевых и владельцем дома в Дивеево, но почти не жил в нём – лишь раз в год приезжал в отпуск на санях, покрытых рогожей, под которой бились боками осетры и севрюги, подпрыгивали на ухабах кули с копчёной воблой и серебристыми заломами. Остальная семья жила у него на иждивении, и благодаря покровительству дяди Миши их хозяйство не тронули в разгул коллективизации и раскулачивания. Но всё быстро изменилось. На газетных полосах отпечатали: «Приговор Верховного суда СССР по делу о вредительстве мясной и рыбной промышленности» и в столбик сорок фамилий, приговорённых к высшей мере наказания. «М.П. Арцыбушев» был отчёркнут, а ниже значилось: «Приговор приведён в исполнение».
На следующий день в Дивеево пришли с обыском: безоговорочное «Открывай!», зажатый в обветренных пальцах ордер на конфискацию движимого и недвижимого имущества, сваленные в кучу посреди комнаты книги, иконы, кухонная утварь, одежда, одеяла, подушки, детские тёплые вещи. «Женщина, не трогать валенок! Положь назад!» – и детские шапки с портянками летели на холодный пол.
— Татьяна Александровна Арцыбушева, вдова расстрелянного вредителя М.П. Арцыбушева...
«М.П.» – Михаил Петрович – Арцыбушев, директор рыбных промыслов Волги и Каспия, был родным братом мужа Татьяны и обожаемым дядей Мишей для её мальчиков. После смерти отца и брата, он остался единственным мужчиной в роду Арцыбушевых и владельцем дома в Дивеево, но почти не жил в нём – лишь раз в год приезжал в отпуск на санях, покрытых рогожей, под которой бились боками осетры и севрюги, подпрыгивали на ухабах кули с копчёной воблой и серебристыми заломами. Остальная семья жила у него на иждивении, и благодаря покровительству дяди Миши их хозяйство не тронули в разгул коллективизации и раскулачивания. Но всё быстро изменилось. На газетных полосах отпечатали: «Приговор Верховного суда СССР по делу о вредительстве мясной и рыбной промышленности» и в столбик сорок фамилий, приговорённых к высшей мере наказания. «М.П. Арцыбушев» был отчёркнут, а ниже значилось: «Приговор приведён в исполнение».
На следующий день в Дивеево пришли с обыском: безоговорочное «Открывай!», зажатый в обветренных пальцах ордер на конфискацию движимого и недвижимого имущества, сваленные в кучу посреди комнаты книги, иконы, кухонная утварь, одежда, одеяла, подушки, детские тёплые вещи. «Женщина, не трогать валенок! Положь назад!» – и детские шапки с портянками летели на холодный пол.
— Я вдова, но не его. Он не мой муж, и это не его дети!
— Молчать! Мне наплевать, кто твой муж! Татьяна Александровна Арцыбушева, вдова расстрелянного вредителя М.П. Арцыбушева, и дети его, Серафим и Алексей, приговариваются к ссылке «минус шесть», – по столу к осуждённой проскользил лист с пустующей графой «место ссылки».
Ссылка «минус шесть» или «минус двенадцать» означала, что человек мог сам выбрать себе место отбывания наказания, за исключением шести или двенадцати наиболее крупных городов СССР и всех прилежащих к ним районов, а также пограничных областей страны (Карелия, Мурманск, Кавказ, Крым). То есть на самом деле мест, которые можно было выбрать, оставалось не так много. Татьяна Арцыбушева вписала в документы Муром, который и должен был стать её новым домом. И вот вихлявый дребезжащий поезд покатил через заснеженную Оку навстречу белокаменным монастырским стенам и уютным струйкам дыма над белоснежными крышами. Тулупы же, которыми замерзающие дивеевские матроны заботливо укутали детей, Татьяна отправила с возницей обратно в село.
К этому времени уже были закрыты Саровский и Дивеевский монастыри, да и всю Россию захлестнула борьба со «служителями культа». Декрет советского правительства «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» 1918 года предусматривал национализацию церковного имущества. Власть рассматривала монастыри только как крупных собственников, поэтому обителям пришлось тяжелее всего. Пройдя через промежуточную форму сельскохозяйственной артели, они окончательно закрылись. В 1927 году на Рождество Божией Матери в Дивеевской обители совершалась последняя литургия, в течение которой хор не пел, а рыдал: монахини и послушницы прощались с чудотворной иконой Умиления, прощались с родными святыми местами. Вскоре в соседнем селе Кимжа местные крестьяне сожгли иконостас XVII века, Ванька – сын сельского священника Симеона – попытался свалить дивеевские колокольни, сельские парни топорами рубили монастырские распятия, сам же отец Симеон был вынужден снять с себя сан и работать механиком на паровой мельнице, установленной в Тихвинском храме. На долгие годы замолкли церковные колокола, переплавленные на цветмет. Дивеевский монастырь, как сотни других по всей стране, стоял опустевший, разворованный. Какую-то часть святынь и церковной утвари монахиням удалось спасти, другую часть прихожане спрятали в своих домах, но многое исчезло бесследно. В Саровском монастыре разместилась колония для малолетних преступников. Однако всё ещё продолжали лететь наставления и призывы епископов не предавать православную церковь – уже теперь из-за тюремных стен, а не монастырских. И вернее всех остальных городов этому завету последовал Муром, ставший в 1930-е годы сосредоточением неофициальной церквной жизни и православного подполья.
К этому времени уже были закрыты Саровский и Дивеевский монастыри, да и всю Россию захлестнула борьба со «служителями культа». Декрет советского правительства «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» 1918 года предусматривал национализацию церковного имущества. Власть рассматривала монастыри только как крупных собственников, поэтому обителям пришлось тяжелее всего. Пройдя через промежуточную форму сельскохозяйственной артели, они окончательно закрылись. В 1927 году на Рождество Божией Матери в Дивеевской обители совершалась последняя литургия, в течение которой хор не пел, а рыдал: монахини и послушницы прощались с чудотворной иконой Умиления, прощались с родными святыми местами. Вскоре в соседнем селе Кимжа местные крестьяне сожгли иконостас XVII века, Ванька – сын сельского священника Симеона – попытался свалить дивеевские колокольни, сельские парни топорами рубили монастырские распятия, сам же отец Симеон был вынужден снять с себя сан и работать механиком на паровой мельнице, установленной в Тихвинском храме. На долгие годы замолкли церковные колокола, переплавленные на цветмет. Дивеевский монастырь, как сотни других по всей стране, стоял опустевший, разворованный. Какую-то часть святынь и церковной утвари монахиням удалось спасти, другую часть прихожане спрятали в своих домах, но многое исчезло бесследно. В Саровском монастыре разместилась колония для малолетних преступников. Однако всё ещё продолжали лететь наставления и призывы епископов не предавать православную церковь – уже теперь из-за тюремных стен, а не монастырских. И вернее всех остальных городов этому завету последовал Муром, ставший в 1930-е годы сосредоточением неофициальной церквной жизни и православного подполья.
Матушка Мария – игуменья Дивеевского монастыря – с большей частью приближённых монахинь и спасёнными святынями теперь ютились в этом древнем городе, зарабатывая себе на жизнь шитьём лоскутных одеял и вязанием. Храм Благовещенского монастыря, единственный впоследствии действующий храм в городе, превратился в подобие маленького Дивеевского подворья. Там правили службы по-дивеевски. Отчасти поэтому Татьяна и выбрала Муром местом своей ссылки. Туда же перебрались и обе тётки-монахини Арцыбушевы: Мария, писавшая иконы, устроилась художницей в краеведческий музей, Наталия, хорошо знавшая немецкий язык, пошла переводчицей на строившийся немцами завод. Она-то и приняла к себе заиндевевших, закутанных до бровей в женские пуховые платки Серафима, Алексея и их мать. Там и узнали, что бабушка тоже получила ссылку минус шесть, но выбрала другой город – Лукьянов, куда и поехала в полном одиночестве.
На следующий день по приезде в Муром Татьяна с детьми пошла на поклон к игуменье Марии. Там она долго молилась на икону Умиления и разговаривала с настоятельницей о положении церкви. Собеседницы разошлись во мнениях. Игуменья спросила:
— А в храм-то ходить собираетесь?
— Нет. Не хочу слышать как большевиков у алтаря поминают.
Этот ответ Татьяны разом прервал её отношения не только с матушкой Марией, но и с тёткой Наталией – нужно было немедленно искать новый угол. Однако найти пристанище зимой, да с двумя детьми, да с клеймом «членов семьи вредителя» оказалось нелегко. Целыми днями Татьяна ходила из дома в дом, из улицы в улицу, пока далеко от города, на самом краю Якимановской слободы у берега Оки не нашла избу, в которой жила одинокая старуха. Она пожалела мать с маленькими сыновьями и пустила к себе. Правда, мытарства не закончились – теперь нужно было искать работу, которой на самом деле хватало, но как только служители за конторкой узнавали о социальном положении Арцыбушевой – сразу указывали ей на дверь. Татьяна устроилась отгребать зерно в элеватор, а параллельно стала учиться в фельдшерской школе, открывшейся при горбольнице. Жили на гроши, отчаянно голодали. Лишь к осени удалось переехать из проеденной чёрным дымом старушечьей избы в комнату на Штабе – так называлась часть города, расположенная на дальней стороне глубокого оврага, поросшего лесом. Нашлись те, кто был готов протянуть руку помощи. В женской консультации заведующей работала сердобольная женщина, устроившая Татьяну дежурной в яслях и сестрой-раздатчицей при кухне для приготовления детского питания, а когда Арцыбушева закончила медкурсы – патронажной сестрой. По долгу службы, Татьяна стала регулярно посещать жителей Мурома, из-за чего круг знакомых активно ширился. В конце концов, благодаря новым связям она вместе со своей подругой Леночкой – такой же ссыльной – сняла отдельную квартиру на улице Лакина, дом 43. Постоянное место жительство позволило зажить по-новому, точнее, по-старому – вернуться к религиозной жизни. Татьяна решила организовать церковь прямо у себя дома, тайную.
В этом же доме поселилась, арендовав весь первый этаж, Татьяна Ростовцева – родная сестра жены Вячеслава Менжинского, наркома финансов РСФСР и преемника Феликса Дзержинского. У неё был пропуск в Кремль, и по дому сестры она была знакома со многими «рыцарями революции», в том числе и Генрихом Ягодой. Но при встрече Ростовцева не подавала ему руки.
В этом же доме поселилась, арендовав весь первый этаж, Татьяна Ростовцева – родная сестра жены Вячеслава Менжинского, наркома финансов РСФСР и преемника Феликса Дзержинского. У неё был пропуск в Кремль, и по дому сестры она была знакома со многими «рыцарями революции», в том числе и Генрихом Ягодой. Но при встрече Ростовцева не подавала ему руки.
— Они у вас все в крови, – как бы шутя, говорила она.
— Да что Вы, Татьяна Николаевна, – отшучивался, – разве это кровь? Она ж у них собачья, какая жалость может быть к врагам.
— Ну, положим, не все там у вас враги. Вот батюшку недавно посадили, какой же он враг?
— А! Вам снова хочется освободить очередного батюшку? Которого? Их у нас хоть пруд пруди!
— Андрея Яковлевича Эльбсона. Дайте ссылку, что вам стоит.
— Для Вас, голубушка, чего не сделаешь. Завтра ж сошлём!
Так иеромонах Андрей Эльбсон оказался в ссылке в Муроме, поселился на Лакина, 43 и стал первым священником домашней церкви Татьяны Арцыбушевой. За священником из Москвы последовали его духовные дети и другие опальные священнослужители. И чтобы приезжие не спрашивали у прохожих дорогу к дому и этим не вызывали подозрений, на брёвнах мелом нарисовали метровые цифры «43»: перед самым забором начинался пустырь, так что надпись была видна издалека.
Дом на Лакина, 43 стал местом регулярных церковных сборов и пристанищем для всех, гонимых по религиозным соображениям. Недалеко от Арцыбушевых жил отец Сергий Сидоров - частый гость подпольной домашней церкви на улице Лакина. Жена его тесно дружила с Татьяной Арцыбушевой: они вместе оканчивали медицинскую школу, их дети были почти ровесники и учились в одной школе.
В Муроме становилось всё больше ссыльных – в основном из Москвы – так называемых «церковников». Шли массовые гонения на всю активно верующую интеллигенцию, поэтому сосланные батюшки или окончательно уходили в подполье, или служили в оставшихся церквях окрестных сёл. В самом городе можно было получить место только при Благовещенском соборе – единственном открытом, – но для этого требовалось получить официальное разрешение советских властей. В 1934 году опальный священник Павел Устинов получил такое разрешение, хоть и не сразу. Поначалу он отказался принимать Декларацию митрополита Сергия Страгородского и идти на компромиссы с правительством, за что его отстранили от службы. Не желая уходить от дел, Устинов вынужден был покаяться и перестать открыто конфликтовать с новым главой церкви. Официальное разрешение на службу можно было получить только так.
В мае 1929 поменялась четвёртая статья Конституции РСФСР: больше нет «свободы религиозной и антирелигиозной пропаганды» – только «свобода религиозных исповеданий и антирелигиозной пропаганды». Однако у советского правительства не было ни последовательного плана действий, ни административного органа, который контролировал бы происходящие процессы и давал им объективную оценку. Поэтому была создана Постоянная комиссия для рассмотрения всех вопросов, связанных с деятельностью религиозных объединений. Её представителем стали бывший член Антирелигиозный комиссии при ЦК ВКП(б) Пётр Смидович, а секретарём – Евгений Тучков, начальник шестого отделения ОГПУ, инициатор уголовных преследований церковных иерархов.
По существу, комиссия должна была придать хоть какой-то организованный характер антирелигиозной политике, которая, особенно в удалении от Ленинграда и Москвы, стала проявлением банального самодурства местных властей. Постановления комиссии ограничивали полномочия ЦИКов АССР, краевых и областных исполкомов, стремясь сдержать беспредел «на местах». Например, запрещалось отнимать у верующих молитвенное здание, если оно было единственным в округе. Но местные власти часто предоставляли комиссии ложные сведения и всё равно распоряжались зданиями и церковными богатствами по своему усмотрению; назначали такие сельскохозяйственные, налоговые и прочие сборы, которые верующие никак не могли оплатить, и, в итоге, разваливали церковные общины. При этом отнятые здания либо заваливались зерном и отдавались под склад, либо просто разворовывались и приходили в запустение. Комиссия постоянно заявляла о недопустимости таких антирелигиозных мер и боролась с ними, но, учитывая масштабы происходящего, остановить насилие над Церковью уже было невозможно.
В мае 1929 поменялась четвёртая статья Конституции РСФСР: больше нет «свободы религиозной и антирелигиозной пропаганды» – только «свобода религиозных исповеданий и антирелигиозной пропаганды». Однако у советского правительства не было ни последовательного плана действий, ни административного органа, который контролировал бы происходящие процессы и давал им объективную оценку. Поэтому была создана Постоянная комиссия для рассмотрения всех вопросов, связанных с деятельностью религиозных объединений. Её представителем стали бывший член Антирелигиозный комиссии при ЦК ВКП(б) Пётр Смидович, а секретарём – Евгений Тучков, начальник шестого отделения ОГПУ, инициатор уголовных преследований церковных иерархов.
По существу, комиссия должна была придать хоть какой-то организованный характер антирелигиозной политике, которая, особенно в удалении от Ленинграда и Москвы, стала проявлением банального самодурства местных властей. Постановления комиссии ограничивали полномочия ЦИКов АССР, краевых и областных исполкомов, стремясь сдержать беспредел «на местах». Например, запрещалось отнимать у верующих молитвенное здание, если оно было единственным в округе. Но местные власти часто предоставляли комиссии ложные сведения и всё равно распоряжались зданиями и церковными богатствами по своему усмотрению; назначали такие сельскохозяйственные, налоговые и прочие сборы, которые верующие никак не могли оплатить, и, в итоге, разваливали церковные общины. При этом отнятые здания либо заваливались зерном и отдавались под склад, либо просто разворовывались и приходили в запустение. Комиссия постоянно заявляла о недопустимости таких антирелигиозных мер и боролась с ними, но, учитывая масштабы происходящего, остановить насилие над Церковью уже было невозможно.
В такое время создавать единую церковную общину было опасно: сотрудники НКВД могли заподозрить и обвинить в антисоветской деятельности всех разом. Нужно было рассредоточиться. Отбыв ссылку, отец Андрей Эльбсон уехал из Мурома, поселившись в Киржаче и окончательно уйдя в подполье; Леночка вернулась в Москву. Арцыбушевы остались коротать ссылку в передней половине дома на Лакина, 43, а в задней поселились дивеевские сестры, которые целыми днями стегали ватные одеяла для своего пропитания. Но и для Татьяны вскоре наступила амнистия: она написала всенародному старосте Михаилу Калинину письмо, в котором объяснила суть своего дела и напомнила один маленький эпизод из дореволюционной жизни старосты. Татьянин отец, будучи в 1916 году министром внутренних дел, получил телеграмму от некого Михаила Ивановича Калинина, сосланного «за что-то революционное», который жаловался на местные власти, не отпускающие его на похороны матери. Министр немедленно дал распоряжение: «Отпустить!». Теперь же Татьяна рассказала, что она дочь того самого сердечного человека, и попросила вникнуть в суть её сфальсифицированного дела. В ответ на письмо Калинин снял с Арцыбушевой все обвинения – она была свободна и могла ехать с детьми, куда пожелает.
Однако Татьяна осталась в Муроме, так как переезжать в другой город попросту не было смысла. Здесь уже была квартира, обставленная купленной на собственные деньги мебелью, была работа медфельдшером в две смены и стабильный доход, Серафим учился в школе на одни пятёрки, Алексей перестал мотаться по улицам со шпаной, куря на чердаках, и работал в местном театре. На новом месте пришлось бы всё начинать сначала, заново проходить весь этот изнурительный путь. Тем более в последние два года чувствовалось смена политических настроений – стали ходить слухи о возможной легализации домашних церквей.
Однако Татьяна осталась в Муроме, так как переезжать в другой город попросту не было смысла. Здесь уже была квартира, обставленная купленной на собственные деньги мебелью, была работа медфельдшером в две смены и стабильный доход, Серафим учился в школе на одни пятёрки, Алексей перестал мотаться по улицам со шпаной, куря на чердаках, и работал в местном театре. На новом месте пришлось бы всё начинать сначала, заново проходить весь этот изнурительный путь. Тем более в последние два года чувствовалось смена политических настроений – стали ходить слухи о возможной легализации домашних церквей.
Этап II
Лишенец
другу, стали много гулять вместе, переписываться. Чуть ли не каждый день после занятий во Владимирской семинарии он бегал встречать её к крыльцу городской женской гимназии. Родители девушки работали при Владимирском драмтеатре (отец – садовником, мать – «кем-то вроде завхоза»), поэтому детство их восьмерых детей прошло за кулисами. Там Клавдия подслушивала споры взрослых о литературе, много читала драматургию – в гимназии её часто ругали, думали, что за девочку сочинения пишет кто-то из старших; посещала вместе с подругой собрания на частной квартире – жандармский ротмистр вёл потом с ней долгий разговор о сборищах «неблагонадёжных». Павел тоже был не из знатной, но из гораздо более обеспеченной семьи: его отец выкупил во Владимире бакалейную лавку и со временем разбогател.
Через два года после их знакомства Павел поступил в Московскую духовную академию, которую окончил в 1914-м. Всё это время между парой велась переписка, достойная эпистолярного романа XVIII века: «Сердце у меня что-то заболело и заныло, Клавдюша, и я решил бросить на время кандидатское сочинение и побеседовать с тобой. Ах, родная моя! Сколько жизни влила ты в меня своим последним письмом! И главное, эта близость, это родное "ты", эта полнота и сила чувства… Ты, как солнышко, согреваешь меня!»; «До нашей любви им (людям) не добраться — оно наше! А что же сейчас творится в нашем "святая святых"? Сегодня в нём мрачно! Смотри, у жертвенника стоит человек и приносит на алтарь чувства свои. Смотри, его лицо грустно, и надо бы ждать от него покаянного вопля, но он сдерживает скорбь свою, он зажигает "светильники" во святая святых…».
Через два года после их знакомства Павел поступил в Московскую духовную академию, которую окончил в 1914-м. Всё это время между парой велась переписка, достойная эпистолярного романа XVIII века: «Сердце у меня что-то заболело и заныло, Клавдюша, и я решил бросить на время кандидатское сочинение и побеседовать с тобой. Ах, родная моя! Сколько жизни влила ты в меня своим последним письмом! И главное, эта близость, это родное "ты", эта полнота и сила чувства… Ты, как солнышко, согреваешь меня!»; «До нашей любви им (людям) не добраться — оно наше! А что же сейчас творится в нашем "святая святых"? Сегодня в нём мрачно! Смотри, у жертвенника стоит человек и приносит на алтарь чувства свои. Смотри, его лицо грустно, и надо бы ждать от него покаянного вопля, но он сдерживает скорбь свою, он зажигает "светильники" во святая святых…».
вященник Павел Устинов познакомился со своей будущей женой Клавдией ещё в юности: ей было 14, ему – 18. Сразу понравились друг
C
Когда Павел окончил Академию, молодые обвенчались, хотя «Клавдюша» испытывала некоторые сомнения: «От Павла получаю каждый день письма. Пишет о назначении женщины: "Женщина должна всегда сохранять свой юношеский идеализм, не должна опускаться в мелочи жизни, должна быть возвышенной и исполнять свой священный долг: быть матерью и женой". Какие мужчины эгоисты – женщина должна быть женой, то есть готовить обед мужу, стирать ему бельё, создавать ему уют, выращивать его детей и в то же время не опускаться в мелочи жизни и быть возвышенной. А работа среди народа, а служение ближнему, а самосовершенствование?!».
Отец Устинова был крайне недоволен этим браком с бедной девушкой «сомнительного» происхождения и писал сыну в ответ на его просьбу о благословении: «Я никак не согласен разрешить тебе жениться на твоей знакомой барышне, и от меня не жди родительского благословения и не считай меня своим отцом». Однако после горячих просьб и увещеваний сына был вынужден молча уступить.
Молодожёны уехали в Вятку, где Павел преподавал в Духовной семинарии священное писание и психологию до самого её закрытия в 1917 году. Вскоре после переезда у них родился первый ребёнок – Миша. Павлу постоянно приходилось выбирать между семьёй и церковной службой, о чём он признавался в дневнике: «У меня созревала великая мысль: быть пастырем церкви. Но вот случилось в моей жизни нечто неожиданное, о чём я никак не мог думать. Жена моя, верная спутница жизни моей, моя радость, моя любовь, когда-то горевшая сама желанием разделить со мной пастырский труд мой, вдруг изменяет своей идее. Её начинают пугать какие-то якобы назревающие политические события, её начинает беспокоить судьба не моя и не её самой, а судьба крошки Миши. И я обещал ей – во имя любви моей к ней – пока не идти в священники». Через год у него родился и второй сын – Серёжа. Но несмотря на это, Устинов в 1920 году всё-таки делает выбор в пользу церкви: принимает сан и уезжает служить в село Богослово Владимирской области. Клавдии пришлось вернуться с детьми во Владимир и поступить на службу в детский сад, так как в селе муж жил в маленькой крестьянской избе, а не в просторной квартире, предназначенной для священника – её отобрали для нужд военкомата.
Отец Устинова был крайне недоволен этим браком с бедной девушкой «сомнительного» происхождения и писал сыну в ответ на его просьбу о благословении: «Я никак не согласен разрешить тебе жениться на твоей знакомой барышне, и от меня не жди родительского благословения и не считай меня своим отцом». Однако после горячих просьб и увещеваний сына был вынужден молча уступить.
Молодожёны уехали в Вятку, где Павел преподавал в Духовной семинарии священное писание и психологию до самого её закрытия в 1917 году. Вскоре после переезда у них родился первый ребёнок – Миша. Павлу постоянно приходилось выбирать между семьёй и церковной службой, о чём он признавался в дневнике: «У меня созревала великая мысль: быть пастырем церкви. Но вот случилось в моей жизни нечто неожиданное, о чём я никак не мог думать. Жена моя, верная спутница жизни моей, моя радость, моя любовь, когда-то горевшая сама желанием разделить со мной пастырский труд мой, вдруг изменяет своей идее. Её начинают пугать какие-то якобы назревающие политические события, её начинает беспокоить судьба не моя и не её самой, а судьба крошки Миши. И я обещал ей – во имя любви моей к ней – пока не идти в священники». Через год у него родился и второй сын – Серёжа. Но несмотря на это, Устинов в 1920 году всё-таки делает выбор в пользу церкви: принимает сан и уезжает служить в село Богослово Владимирской области. Клавдии пришлось вернуться с детьми во Владимир и поступить на службу в детский сад, так как в селе муж жил в маленькой крестьянской избе, а не в просторной квартире, предназначенной для священника – её отобрали для нужд военкомата.
Пока двадцатичетырёхлетняя Клавдия одна пыталась прокормить маленьких сыновей, отец Павел активно участвовал в дебатах с антирелигиозниками. В одну из суббот Устинов получил из волисполкома повестку, предлагающую ему явиться в богословскую школу на доклад товарища Еремеева «Есть ли бог» в роли оппонента. Когда священник вошёл в зал, огромный лохматый Еремеев размахивал ручищами и очень остроумно поносил «почтеннейшего бога». Его шутки, грубые и порой даже непристойные, находили живейший отклик у зала. Он сыпал острыми и злобными вопросами:
— Когда у Адама вынули ребро, почему он не отправился к праотцам?
— Человек сотворён из земли и в то же время по образу божьему. Что же, Бог – земляной?
— Есть арабы чёрные, как черти, есть жёлтые китайцы, есть белые люди. Что же, Бог – разноцветный?
— Почему почтеннейшего Ноя не сожрали звери в Ковчеге?
— Почему Бог рисуется стариком. Неужели он отживает свой век?
Однако сельский поп оказался тоже не промах – ответил на все каверзные вопросы, да ещё ссылаясь на европейских натуралистов, геологов и естествоведов, чем довёл товарища докладчика до откровенных грубостей. Тем не менее оппоненты расстались, пожав руки и договорившись продолжить диспут, когда оба будут свободны. Но они так и не смогли снова встретиться: сотрудники ГПУ не были настроены спорить с Устиновым и после небольшого допроса лишили его избирательного права, что отца Павла, однако, сильно не расстроило. Заботило его тогда совсем другое – он был назначен настоятелем владимирской Николо-Кремлёвской церкви («Никола-Город») и духовником окружного священства. Семья ненадолго воссоединилась, и в 1925 году родился третий ребёнок – Наташа. Появление дочери не заставило отца Павла стать осторожнее, что очень беспокоило его жену. Она тревожно писала в дневнике: «Нашу семью лишили права голоса, мы, что называется, лишенцы».
Опасения Клавдии оправдались: в 1931-м Павла снова арестовали и продержали пять месяцев в одиночной камере владимирского домзака, водя на допросы и не разрешая свиданий с родными. Жена отказывалась верить в серьёзность происходящего, не думала, что Устинова могут наказать за одну его церковную службу: «Я знаю Павла как очень честного человека, знаю и их, коммунистов, как людей идеи социализма. Они не мешали Павлу, он им и подавно, в чём же дело?».
Опасения Клавдии оправдались: в 1931-м Павла снова арестовали и продержали пять месяцев в одиночной камере владимирского домзака, водя на допросы и не разрешая свиданий с родными. Жена отказывалась верить в серьёзность происходящего, не думала, что Устинова могут наказать за одну его церковную службу: «Я знаю Павла как очень честного человека, знаю и их, коммунистов, как людей идеи социализма. Они не мешали Павлу, он им и подавно, в чём же дело?».
«Видно, без скорбей не прожить нам жизни, – писал из тюрьмы жене Устинов. – Живу в чистой камере. Зимняя рама ещё не вставлена. Спасибо за валенки. Не покупай мне ничего – разве только хлеба и бутылку молока и больше ничего. Не скучай. Скоро увидимся».
Увиделись только мельком при отправке в Мариинский лагерь, куда этапировали священника: в ночь с 4 на 5 июня 1932 года сумрачные и подавленные арестанты сидели на конце перрона под надзором конвоя. Среди них Клавдия узнала фигуру Павла, окликнула. Он вздрогнул и обернулся – заметил её. Хотел подойти, но его остановили конвойные, стали загонять в вагон. Отец Павел успел вскинуть руку и издали благословить застывшую жену. От мужа ей осталась лишь куцая прощальная записка: «Ну, обещай ты мне, что ты не будешь унывать, что ты предашься всецело воле Божией. Ведь сейчас мы с тобой выпускной экзамен сдаём. Ну и сдавай на 5+. А на мою долю выпадет ещё экзамен на аттестат зрелости (я ведь постарше тебя – с меня больше и спрашивается). Я помолюсь за тебя, а ты – за меня. Ну, будешь ты у меня хорошей ученицей?».
Этап III
Бесы
пальто, из-под полов которого торчал тёмный подрясник. Свежие заплаты прикрывали дыры на одеянии, из-за чего оно казалось будто пятнистым. Человек поднимал руку к вискам и поправлял длинные тёмно-каштановые волосы – волнистые локоны упрямились спрятаться под серой кепкой. Порой он останавливался, чтобы сбить с сапог грязь, засохшую твёрдой коркой. Дорога проходила через глинистые поля, испещрённые оврагами: летом их заливали жёлтые цветки гусиной травы, а ранней весной – тающий снег, который размывал глину и превращал путь в испытание.
Это шёл в Дмитровскую слободу на службу в храм Пресвятой Троицы отец Сергий Сидоров. Церковь ещё пока не была пустующей – она оставалась одной из немногих, действующих в окрестностях Мурома, и поэтому её посещали не только местные прихожане, но и многие верующие из соседних сёл. Часто и сам Сидоров объезжал окрестные деревни, где вдали от лишнего внимания мог во время службы не поминать ни Сергия Страгородского, ни советскую власть. Сельские жители помогали Сидорову: у них он часто оставался ночевать, принимал от них угощения для себя и своей семьи, был званым гостем на все крестьянские праздники. При этом сам тоже не оставался в долгу и старался откликнуться на любую просьбу.
Это шёл в Дмитровскую слободу на службу в храм Пресвятой Троицы отец Сергий Сидоров. Церковь ещё пока не была пустующей – она оставалась одной из немногих, действующих в окрестностях Мурома, и поэтому её посещали не только местные прихожане, но и многие верующие из соседних сёл. Часто и сам Сидоров объезжал окрестные деревни, где вдали от лишнего внимания мог во время службы не поминать ни Сергия Страгородского, ни советскую власть. Сельские жители помогали Сидорову: у них он часто оставался ночевать, принимал от них угощения для себя и своей семьи, был званым гостем на все крестьянские праздники. При этом сам тоже не оставался в долгу и старался откликнуться на любую просьбу.
есной 1933 года на большой дороге из села Карачарово в Муром была видна высокая плотная фигура, завёрнутая в не по размеру подобранное
В
Как-то осенней ночью он проснулся от стука в окно:
— Кто там?
— Батюшка, отцу плохо, поедемте, надо причастить! – ответил юношеский голос. – Кричит, бесы к нему подбираются!
Отец Сергий вскочил с печи, быстро оделся и, взяв Святые Дары, вышел к ждущей его телеге. Юноша отвёз священника в соседнюю деревню к дому, из которого доносились дикие вопли умирающего. У крыльца уже собралась целая толпа зевак. Сидоров растолкал их, перекрестился, вошёл внутрь. На кровати извивался мужчина и исступлённо размахивал руками, словно отгоняя кого-то.
— Спаси, батюшка! Бесы стращают, хватают меня! Спаси!!! – вскинул руки к отцу Сергию умирающий. Священник исповедовал и причастил его, а после – сел у изголовья кровати, усердно молясь. Больной затих:
— По углам разбежались, окаянные. Ко мне не подходят.
Сидоров так и провёл в крестьянском доме всю ночь, пока мужик спокойно не умер.
— Кто там?
— Батюшка, отцу плохо, поедемте, надо причастить! – ответил юношеский голос. – Кричит, бесы к нему подбираются!
Отец Сергий вскочил с печи, быстро оделся и, взяв Святые Дары, вышел к ждущей его телеге. Юноша отвёз священника в соседнюю деревню к дому, из которого доносились дикие вопли умирающего. У крыльца уже собралась целая толпа зевак. Сидоров растолкал их, перекрестился, вошёл внутрь. На кровати извивался мужчина и исступлённо размахивал руками, словно отгоняя кого-то.
— Спаси, батюшка! Бесы стращают, хватают меня! Спаси!!! – вскинул руки к отцу Сергию умирающий. Священник исповедовал и причастил его, а после – сел у изголовья кровати, усердно молясь. Больной затих:
— По углам разбежались, окаянные. Ко мне не подходят.
Сидоров так и провёл в крестьянском доме всю ночь, пока мужик спокойно не умер.
Однако ни симпатии верующих, ни внушительное количество прихожан не спасали священника от бедности и налогового гнёта. Он был вынужден влезать в долги, просить помощи у родственников из Москвы, хотя и этого не хватало, чтобы прокормить большую семью. Участились ссоры с женой Татьяной. Однажды, во время очередной ругани с ней на кухне, страдающий нервной болезнью Сидоров начал громко кричать и топать ногами с такой силой, что под ним проломилась крышка погреба, и он упал в подпол избы под заливистый смех Татьяны. В письме от 16 сентября 1933 года он писал: «На службе моей всё более я нахожу утешения. Мучит постоянная материальная сторона – налоги, которые никак не могу уплатить. Последние остались 80 рублей, их надо достать к 1-му октября, и это тревожит и заставляет ум часто слишком останавливаться на суетности и тревогах жизни. На это я смотрю как на крест. На всё воля Божья».
Сидоров вёл регулярную переписку с родственниками, светскими друзьям и священнослужителям, разделявшими его критические взгляды на состояние Русской Церкви. После трёх лет, проведённых в лагерях Котласа, он не имел ни паспорта, ни права на въезд в крупные города, поэтому только так мог поддерживать связь с близкими и оставаться в курсе последних новостей. Но письма не избавляли отца Сергия от чувства одиночества, которое стало всё сильнее им овладевать. В конце концов, священник не выдержал ссылки и сорвался в Москву, прекрасно понимая, что этот поступок может обернуться для него новым арестом и стать губительными для всей семьи.
Несмотря на риск, поездки стали регулярными: в столице Сидоров часто навещал сестру Ольгу и брата Алексея, проводил секретные богослужения прямо в квартирах. А в декабре 1935 года приехал в Москву вместе со старшей дочерью Верой, чтобы тайно обвенчать своего самого близкого друга юности, художника Николая Чернышёва и его вторую жену Елизавету Самарину. Опасная церемония совершалась при соблюдении строжайшей конспирации в доме Васнецовых, который тогда принадлежал родственникам невесты, а позже был отдан под музей художника Виктора Васнецова.
Сидоров, остерегаясь доносов соседей, ночевал не у родственников, а либо в Старо-Конюшенном переулке, на квартире у своего духовного сына, известного врача-гомеопата Сергея Грузинова, либо в Новодевичьем монастыре. В одну из таких ночей у Грузинова их увлечённую беседу прервал звонок в дверь. Открывать никто не спешил – в такой поздний час за дверью могли быть лишь сотрудники милиции, желающие проверить документы. И Сидорову, и Грузинову это сулило серьёзные проблемы. Но в дверь продолжали звонить. Хозяин квартиры обречённо пошёл открывать. В прихожей стоял всего лишь сосед с какими-то пустяками. Грузинов, словно побывавший на том свете, вернулся в комнату, но отца Сергия в ней уже не было: испугавшись ареста, священник вылез через окно на крышу соседнего дома и полз по ней, скрываясь от мнимого преследования.
Понимая, что посещать Москву без паспорта долго не получится, Сидоров через письма друзьям подал прошение в Красный крест, и его просьбу удовлетворили. Правда, наличие документов не гарантировало снижение рисков. Тогда любая сходка, инициированная не советским правительством, легко могла стать поводом для репрессий. А отец Сергий к этому моменту уже окончательно ушёл в церковное подполье и участвовал во многих секретных собраниях.
Сидоров, остерегаясь доносов соседей, ночевал не у родственников, а либо в Старо-Конюшенном переулке, на квартире у своего духовного сына, известного врача-гомеопата Сергея Грузинова, либо в Новодевичьем монастыре. В одну из таких ночей у Грузинова их увлечённую беседу прервал звонок в дверь. Открывать никто не спешил – в такой поздний час за дверью могли быть лишь сотрудники милиции, желающие проверить документы. И Сидорову, и Грузинову это сулило серьёзные проблемы. Но в дверь продолжали звонить. Хозяин квартиры обречённо пошёл открывать. В прихожей стоял всего лишь сосед с какими-то пустяками. Грузинов, словно побывавший на том свете, вернулся в комнату, но отца Сергия в ней уже не было: испугавшись ареста, священник вылез через окно на крышу соседнего дома и полз по ней, скрываясь от мнимого преследования.
Понимая, что посещать Москву без паспорта долго не получится, Сидоров через письма друзьям подал прошение в Красный крест, и его просьбу удовлетворили. Правда, наличие документов не гарантировало снижение рисков. Тогда любая сходка, инициированная не советским правительством, легко могла стать поводом для репрессий. А отец Сергий к этому моменту уже окончательно ушёл в церковное подполье и участвовал во многих секретных собраниях.
Старинного письма иконы, немеркнущий свет лампадок, дивеевские монахини с вязаньем в руках, уважаемые священники Михаил Шик и Андрей Эльбсон – тайная церковь в сером домике Арцыбушевых очень быстро приманила к себе и Сергия Сидорова. Его дети и Серафим с Алексеем ходили в одну школу, их матери – две Татьяны – учились вместе на медицинских курсах. Семьи сблизились, стали дружить, помогать друг другу. Отец Сергий регулярно совершал службы в потаённом храме на Лакина, 43. Часто ездил и в другие домашние церкви, которые изгнанные из монастырей устраивали в небольших городках и сёлах Московской и Владимирской областей.
Храмы в Муроме начали закрывать с мая 1929 года, когда городской совет решил забрать пять церквей «под культурные и хозяйственные нужды». Даже не дождавшись согласования с ВЦИКом, совет приступил к исполнению замысла. Один из центральных храмов города – Сретения Господня – был отдан под склад Муромскому объединению льняных фабрик, с условием, что вся арендная плата за помещение пойдёт на культурное развитие города. Окружавшие храм маргаритки завалили мешками с волокном, по которым с радостью прыгала местная шпана. Потом здание переделали под оружейный склад, поставили часового, который непрестанно ходил вокруг здания. От цветущей лужайки осталась лишь вытоптанная земля.
Храмы в Муроме начали закрывать с мая 1929 года, когда городской совет решил забрать пять церквей «под культурные и хозяйственные нужды». Даже не дождавшись согласования с ВЦИКом, совет приступил к исполнению замысла. Один из центральных храмов города – Сретения Господня – был отдан под склад Муромскому объединению льняных фабрик, с условием, что вся арендная плата за помещение пойдёт на культурное развитие города. Окружавшие храм маргаритки завалили мешками с волокном, по которым с радостью прыгала местная шпана. Потом здание переделали под оружейный склад, поставили часового, который непрестанно ходил вокруг здания. От цветущей лужайки осталась лишь вытоптанная земля.
В тот год ночь, накрывшая Русскую Церковь, стала ещё темнее: власть перестала скрыто контролировать церковь и перешла к открытым репрессиям последователей лояльной обновленческой церкви, приверженцев Страгородского и других митрополитов, не видя между ними разницы. Причиной тому послужила начавшаяся в стране коллективизация. Эту реформу, совпавшую с периодом неурожая и последующего голода, крестьяне встретили сопротивлением. За год в деревнях прошли 6,5 тысяч массовых выступлений, 800 из которых власти подавили, применив оружие. Последовали аресты, депортации и ссылки несогласных с новой политикой – сотни тысяч сгинут в исправительно-трудовых лагерях, но ещё больше крестьян не переживут голода и вспыхнувших эпидемий. Для перехода к новой системе ведения хозяйства русская деревня, по решению советского правительства, должна была кардинально измениться – расстаться со своими вековыми устоями, подчиниться государственной идеологии. Одним из таких устоев власти посчитали православную церковь. Было принято решение окончательно от неё избавиться.
Избавлялись радикально и повсеместно. В Муроме по радио, в газетах «Приокская правда» и «Муромский рабочий» объявили о беспроигрышной лотерее: для участия нужно было всего лишь собраться в назначенный день и час с ломами, мотыгами, кирками, лопатами у памятника Ленину на центральной площади города. В ночь перед этим сбором весь Муром разбудили мощные взрывы, сотрясшие оконные стёкла. Наутро от части городских храмов остались одни развалины: горы белых камней и груды битого кирпича. Их-то и требовалось разобрать и погрузить на телеги участникам беспроигрышной лотереи, чтобы получить билетик с призом. Народ, перекрестившись, взялся разбирать, разгребать, сгружать на телеги и отвозить на различные стройки остатки церквей. Работе способствовало пение «Интернационала» под аккомпанемент духового оркестра. Вечером уставшие рабочие уходили домой, сжимая в руках награду: кто – курицу, кто – петуха, кто – молодого поросёнка.
В конце концов, очередь дошла и до церкви отца Сергия в Дмитровской слободе. Её закрыли, и весной 1936-го Сидоров переехал на новое место службы в село Климово в пятидесяти километрах от Мурома. Там священник получил место при белокаменном храме Успения Пресвятой Богородицы, стоящей на холме и отделенной от села кладбищем. Саму церковь окружала полуразрушенная кирпичная стена, прорехи в которой закрывали пышные кусты сирени. Ночевал священник прямо у храма, в почерневшей от времени, покосившейся сторожке. Материальное положение прихода было ещё хуже, чем на прошлом месте службы отца Сергия. Помогал священнику один хромоногий, вечно угрюмый причетник Яков Порфирьевич – большой любитель выпить. Хор был собран из местных деревенских женщин, на которых же ложилась часть хозяйственных забот: они убирали помещение и территорию церкви. Трудились кто как, но ужасно обижались на священника, что благодарил он всех одинаково, независимо от проделанной работы.
На лето к Сидорову приехала его семья. Ненадолго воцарилась идиллия: отец Сергий с Татьяной, взявшись за руки, гуляли вдоль реки. Впереди них бегали дети и пробовали танцевать под доносившиеся из села звуки гармоники, перемешанные с пением перепёлок. Вдали от Мурома, умиротворённый сельскими пейзажами и близостью родных людей, священник забывает церковное подполье и меньше пишет своим соратникам. Но лишь до зимы.
В феврале 1937 года церковь Успения Пресвятой Богородицы тоже оказалась закрыта и Сидоров потерял последнее место службы. Священник ходил по окрестным деревням, но пожертвований верующих всё равно не хватало для выживания. Проводить службы вне церкви не получалось, а как писал сам Сидоров: «Священник не может жить и не совершать литургию». Возобновились поездки в Малоярославец в дом Михаила Шика, где была небольшая пристройка: для непосвящённых – обычный кабинет, в котором хозяин работал над переводами, но для круга верующих – подпольная домовая церковь.
На лето к Сидорову приехала его семья. Ненадолго воцарилась идиллия: отец Сергий с Татьяной, взявшись за руки, гуляли вдоль реки. Впереди них бегали дети и пробовали танцевать под доносившиеся из села звуки гармоники, перемешанные с пением перепёлок. Вдали от Мурома, умиротворённый сельскими пейзажами и близостью родных людей, священник забывает церковное подполье и меньше пишет своим соратникам. Но лишь до зимы.
В феврале 1937 года церковь Успения Пресвятой Богородицы тоже оказалась закрыта и Сидоров потерял последнее место службы. Священник ходил по окрестным деревням, но пожертвований верующих всё равно не хватало для выживания. Проводить службы вне церкви не получалось, а как писал сам Сидоров: «Священник не может жить и не совершать литургию». Возобновились поездки в Малоярославец в дом Михаила Шика, где была небольшая пристройка: для непосвящённых – обычный кабинет, в котором хозяин работал над переводами, но для круга верующих – подпольная домовая церковь.
Отец Михаил Шик переехал в Малоярославец несколько лет назад из села Томилино близ Москвы, где также, прямо в квартире, проводил тайные богослужения. Туда к нему приходили Татьяна, дочь философа Василия Розанова, пианистка Мария Юдина и даже Екатерина, дочь Вячеслава Менжинского. Шик предчувствовал, что рано или поздно на него донесут в ОГПУ, поэтому скрылся от лишнего внимания в Малоярославце. Действительно: вскоре на его подмосковный адрес «пришли». Искали отца Михаила, спрашивали о нём
соседей, но те отвечали: «Уехал в какой-то город, кажется, на букву "М". Может, в Можайск?». Многие из духовных чад священника последовали за ним в Малоярославец, и там за шесть лет вокруг Шика собралась целая группа единомышленников – тоже подпольщиков. Среди них был и Сергий Сидоров. Тайные службы проходили в аскезе, свечи экономили для освещения дома, многих надлежащих атрибутов не хватало, а что-то даже уничтожали сами – при обыске сотрудниками ОГПУ это могло стать опасным вещдоком и стоить владельцу жизни.
Но самое необходимое собирали по крупицам – радовались мелочам. Во время очередной поездки Сидорова в Москву друзья подарили ему чудом уцелевшее, почти новое церковное одеяние. Увидев среди подарков епитрахиль и даже подризник, отец Сергий радостно воскликнул:
— Благодарю Тебя, Господи! Значит, меня похоронят как священника!
— Благодарю Тебя, Господи! Значит, меня похоронят как священника!
Этап IV
Колодники
обещали место священника. Правда, не в самом городе, а рядом, через овраг, в Дмитровской слободе. За ним последовала и его семья. Татьяна с тремя детьми поселилась в маленьком домике в старинном селе Карачарово, расположенном в трёх километрах от Мурома, а Сергий – на противоположной окраине, у церкви Дмитровской слободы в комнатушке, в которой были лишь письменный стол, широкая лавка вместо кровати и несколько взирающих на это скромное убранство икон. Младшую дочь Таню ещё до отъезда в Карачарово отправили из-за слабого здоровья в детский санаторий под Москвой – в «детскую колонию» как тогда называли; там она окрепла, однако следующей зимой в Карачарово девочке снова стало плохо и её отвезли в столицу к Ольге, сестре Сидорова. Таня стала воспитываться у тёти, приезжая в Муром лишь на каникулы.
Покинув Москву, отец Сергий, его жена, их старшая дочь и два сына сошли на платформу железнодорожного вокзала Мурома и направились в Карачарово. Идти было пять километров и, чтобы сократить дорогу, Сидоров повёл семью по рельсам. Вскоре их окрикнул милиционер, остановил: ходить по путям было запрещено. Родители сразу послушались и, не прекословя, отошли в сторону. Но Вера, старшая дочь, увидев недовольного сотрудника в форме, подумала, что главу семьи опять собираются арестовать. Она заплакала, схватилась за ноги отца и закричала:
— Папа ни в чём не виноват! Он ничего плохого не сделал! Я его больше не отдам!
Милиционер сконфузился, не понимая реакции ребёнка, но не стал ничего отвечать. Мать подхватила девочку, и вся семья растерянно пошла прочь. На этот раз никого не арестовали, но семья Сидорова ещё много лет не знала покоя из-за службы отца. Переезжали из комнаты в комнату, меняли дома и квартиры, неизменным оставалось одно – всегда в сундуке между детскими штопаными вещами лежал заготовленный заранее свёрток с чистой рубашкой, носками, ложкой, эмалированной кружкой и сухарями. Даже детские игры носили на себе метку лагерного прошлого их отца: они бегали в «кандалах» – вешали на себя ухват, кочергу, любые подручные железки и ходили по комнате друг за другом гуськом, звеня всеми своими «оковами» и распевая арестантские песни, которым их научил отец Сергий.
— Спускается солнце за степи, вдали золотится ковыль... – заводил старший сын Бориска.
— Колодников звонкие цепи взметают дорожную пыль, – подхватывали остальные.
— Эх, Борюнок мой, Борюнок! – умильно приговаривал Сергий и прижимал к себе сына. Мать же с ужасом смотрела на такие игры детей.
Покинув Москву, отец Сергий, его жена, их старшая дочь и два сына сошли на платформу железнодорожного вокзала Мурома и направились в Карачарово. Идти было пять километров и, чтобы сократить дорогу, Сидоров повёл семью по рельсам. Вскоре их окрикнул милиционер, остановил: ходить по путям было запрещено. Родители сразу послушались и, не прекословя, отошли в сторону. Но Вера, старшая дочь, увидев недовольного сотрудника в форме, подумала, что главу семьи опять собираются арестовать. Она заплакала, схватилась за ноги отца и закричала:
— Папа ни в чём не виноват! Он ничего плохого не сделал! Я его больше не отдам!
Милиционер сконфузился, не понимая реакции ребёнка, но не стал ничего отвечать. Мать подхватила девочку, и вся семья растерянно пошла прочь. На этот раз никого не арестовали, но семья Сидорова ещё много лет не знала покоя из-за службы отца. Переезжали из комнаты в комнату, меняли дома и квартиры, неизменным оставалось одно – всегда в сундуке между детскими штопаными вещами лежал заготовленный заранее свёрток с чистой рубашкой, носками, ложкой, эмалированной кружкой и сухарями. Даже детские игры носили на себе метку лагерного прошлого их отца: они бегали в «кандалах» – вешали на себя ухват, кочергу, любые подручные железки и ходили по комнате друг за другом гуськом, звеня всеми своими «оковами» и распевая арестантские песни, которым их научил отец Сергий.
— Спускается солнце за степи, вдали золотится ковыль... – заводил старший сын Бориска.
— Колодников звонкие цепи взметают дорожную пыль, – подхватывали остальные.
— Эх, Борюнок мой, Борюнок! – умильно приговаривал Сергий и прижимал к себе сына. Мать же с ужасом смотрела на такие игры детей.
осле освобождения из лагеря, в 1933-м, отец Сергий не мог жить ближе 300 километров от Москвы. Он выбрал Муром, потому что там ему
П
Отец Сергий тоже искал работу на муромской бирже труда, но не находил подходящего для себя места. Пробовал заниматься литературным трудом, но в итоге писал только дневники, историю рода своих предков по матери или многочисленные письма друзьям. Михаилу Шику он рассказывал: «Жена пока на службе, но ждёт ежедневно сокращения, чрезвычайно изнервничалась. Берёт сверхурочные работы, которые весьма мало оплачиваются. Её вид и состояние чрезвычайно меня тревожат. Дети вполне благополучны. Посещают площадку, здоровы и веселы».
Татьяна, происходившая из известного украинского дворянского рода Кандиба и имевшая прекрасное воспитание, досадовала, что её муж был очень непрактичен и беспомощен в житейских делах, мало что умел делать по хозяйству, денег, фактически, не зарабатывал, семье практически не помогал. Всё приходилось делать самой: рубить дрова, топить печь, носить воду, ремонтировать что-то по дому, готовить, стирать, убирать, возиться с детьми. А затем ещё идти через глубокий тёмный овраг на ночную смену на фанерном заводе и там, в жарком и шумном цеху, таскать листы фанеры, подсовывать их под пресс. Как-то ночью её руку затянуло в станок и раздавило – два месяца пришлось ходить в больницу, но указательный палец так и остался изуродован. Когда не было возможности работать Татьяна просила милостыню у соседей, благо можно было обойтись мешком картошки, чтобы прокормить хотя бы детей – Сидорову помогали прихожане в Дмитровской слободе, звали к себе в гости и кормили блинами.
С детьми приходилось не легче. Летом матери удалось устроить младшего сына Алёшу и дочку Веру в детский сад, однако вскоре Татьяну заставили их забрать из-за христианских взглядов. Оставлять дома ребят было не с кем, и поэтому осенью они пошли в школу к старшему Борису, который уже учился в третьем классе. Иногда семью в Карачарове навещал отец, но в эти дни к нему приходил его старый друг Фёдор Челищев, живший по соседству, и дети слушали их философские и духовные беседы, которые взрослые вели, сидя на лежащих перед домом брёвнах.
Условия жизни улучшились летом 1935-го. Отец Сергий познакомился с верующей старушкой Анной Григорьевной, которая согласилась сдать ему большую комнату и кухню в своём двухэтажном деревянном доме с собственным садом в самом центре города. Комнату Татьяна со смехом называла «логовом»: вдоль одной стены стояла большая деревянная лавка, на которой спал Борис, кровать Алексея, а напротив – постель Веры. У окна стояли стол и сундук, одежда висела на гвоздях у двери. Родители спали на полу, подстелив ветхие одеяла. Были ещё три стула, ящик из-под посылок, где дети хранили свои книги и игрушки, старые ходики на стене, да в красном углу икона Иверской Божией Матери, с которой отец Сергий не расставался с детства. Замка на входной двери не было – она закрывалась только изнутри на тоненький крючок. Однажды Татьяна, вернувшись домой, застала вора, который стоял очень смущённый бедной обстановкой комнаты и особенно – состоянием обоев: домашняя крольчиха Дымка драла их снизу, и поэтому неровные полосы доходили до середины стен. Домушник растерялся и, заметив хозяйку, лишь подбодрил её, сказал, что всё наладится, после чего просто ушёл.
А брать ему действительно было нечего – самой дорогой вещью в семье были отцовские сапоги сорок пятого размера с очень высоким подъёмом, которые просто купить было нельзя – приходилось шить на заказ. Только такие мог носить отец Сергий, страдающий варикозным расширением вен сильной степени и трофическими язвами на ногах, которые всё время кровоточили и гноились. Татьяна с усилием стаскивала с опухших ног мужа сапоги, ставила ему тазик с горячей водой и меняла грязные повязки, пока он стонал от боли. Бинтов не было, приходилось рвать на длинные лоскуты старые простыни, которые быстро присыхали к язвам. В книге об отце Вера вспоминала этот эпизод:
— Серёжа, потерпи, ну потерпи ещё, – успокаивала мужа Татьяна.
— Оставь, мне больно! – отмахивался отец Сергий.
По словам дочери, в такие моменты в Сидорове «просыпалось что-то детское, и он кричал до слёз, зная, что возле него любящий и сильный человек, который может так хорошо пожалеть». Ухудшало здоровье священника и служба – приходилось отстаивать долгие часы, что не шло на пользу ногам. Но оставить своё дело отец Сергий не мог, несмотря на опасения жены, которые были связаны не только с самочувствием мужа, но и его безопасностью: в Муроме участились доносы и усилилась слежка за нелегальными собраниями. Татьяна просила мужа немного переждать, придержать коней или хотя бы подумать о детях. На что он отвечал:
— Серёжа, потерпи, ну потерпи ещё, – успокаивала мужа Татьяна.
— Оставь, мне больно! – отмахивался отец Сергий.
По словам дочери, в такие моменты в Сидорове «просыпалось что-то детское, и он кричал до слёз, зная, что возле него любящий и сильный человек, который может так хорошо пожалеть». Ухудшало здоровье священника и служба – приходилось отстаивать долгие часы, что не шло на пользу ногам. Но оставить своё дело отец Сергий не мог, несмотря на опасения жены, которые были связаны не только с самочувствием мужа, но и его безопасностью: в Муроме участились доносы и усилилась слежка за нелегальными собраниями. Татьяна просила мужа немного переждать, придержать коней или хотя бы подумать о детях. На что он отвечал:
— Бояться не стыдно, все мы люди слабые, а вот малодушествовать нельзя. Бог-то ведь с нами и нигде Он нас не оставит!
— А что будет с детьми? На кого их оставишь?
— На Царицу Небесную! Если я погибну, то за Её Сына. Так неужели можно допустить мысль, что в таком случае Она оставит моих детей? Никогда! Спасёт и защитит!
Этап V
Ждущая
пациентов? Подумай! Крепко целую тебя и Натулю», – прочла Клавдия Устинова в письме мужа от 8 октября 1936 года. А бить-то её действительно было некому: семья жила по разным городам.
Когда Павел Устинов в мае 1934 года вернулся из лагерной ссылки, ему отказали в прописке во Владимире. Он выбрал Муром – по слухам, там было сосредоточение религиозной жизни советской России – и стал служить протоиереем в Благовещенском соборе (в том самом, который Татьяна Арцыбушева категорически отказалась посещать). Клавдия с детьми в это время жила в Москве, но ей пришлось переехать во Владимир. После возвращения Устинова из Сибири её несколько раз вызывали в московское отделение милиции, расспрашивали о муже, а в итоге – отобрали столичный паспорт. Чтобы его вернуть требовалось развестись с «антисоветским элементом», но вместо этого Клавдия с тринадцатилетней дочкой уехали в провинцию. Сыновья же остались работать в Москве. Съехаться возможности не было, да и боялись: если бы Устинова вновь арестовали, то жена с детьми отправились бы следом – ссылали теперь целыми семьями.
Когда Павел Устинов в мае 1934 года вернулся из лагерной ссылки, ему отказали в прописке во Владимире. Он выбрал Муром – по слухам, там было сосредоточение религиозной жизни советской России – и стал служить протоиереем в Благовещенском соборе (в том самом, который Татьяна Арцыбушева категорически отказалась посещать). Клавдия с детьми в это время жила в Москве, но ей пришлось переехать во Владимир. После возвращения Устинова из Сибири её несколько раз вызывали в московское отделение милиции, расспрашивали о муже, а в итоге – отобрали столичный паспорт. Чтобы его вернуть требовалось развестись с «антисоветским элементом», но вместо этого Клавдия с тринадцатилетней дочкой уехали в провинцию. Сыновья же остались работать в Москве. Съехаться возможности не было, да и боялись: если бы Устинова вновь арестовали, то жена с детьми отправились бы следом – ссылали теперь целыми семьями.
ак говоришь, "не люблю тебя" и не забочусь о тебе? Эх, ты! Бить-то тебя некому! Разве на врача можно обижаться, что у него много
«Т
Виделись редко, но и во время этих коротких визитов Устинову было не до родных. Во Владимир он приезжал к своим духовным чадам, а к семье приходил ближе к ночи и сразу ложился спать. Клавдии оставалось только сидеть у кровати мужа, смотреть на него, расчёсывать его спутанные волосы и плакать, но он не просыпался. Общаться с семьёй ему было некогда. В 1937-м в Москве за «антисоветскую агитацию» арестовали сына Сергея и осудили на шесть лет исправительно-трудовых лагерей в Карелии, но даже об этом семья узнала не сразу. Обсудить случившееся Клавдии было не с кем, оставалось только писать в дневнике: «Был арестован Серёжа, а за что – я не знаю. Скоро будет два месяца, а он всё сидит». Сергея уже этапировали в лагерь, но семья продолжала думать, что он находится в тюрьме.
Утешение Клавдия пыталась найти у мужа и ради этого поехала к нему в Муром, хотя бы на два дня. «А потом встреча, разговоры, радость и бесконечная любовь!.. Как счастлива я была с ним эти дни, сколько любви и ласки, как он хорош, нежен, как я люблю его! – вспоминала этот краткий миг счастья Клавдия. – 17-го ноября вечером он провожал меня на станцию. Мы попрощались, и он поспешил (в церковь), хотя поезда ещё и не было. Тяжёлое предчувствие сжало мне сердце, и я подумала: "Арестуют. Я его долго не увижу"».
Устинова арестовали на следующий день вечером. Он был в своей комнате, молился, как вдруг дверь распахнулась. Вошли сотрудники НКВД, устроили обыск. Осмотрев вещи, приказали ему одеться и проследовать за ними.
Утешение Клавдия пыталась найти у мужа и ради этого поехала к нему в Муром, хотя бы на два дня. «А потом встреча, разговоры, радость и бесконечная любовь!.. Как счастлива я была с ним эти дни, сколько любви и ласки, как он хорош, нежен, как я люблю его! – вспоминала этот краткий миг счастья Клавдия. – 17-го ноября вечером он провожал меня на станцию. Мы попрощались, и он поспешил (в церковь), хотя поезда ещё и не было. Тяжёлое предчувствие сжало мне сердце, и я подумала: "Арестуют. Я его долго не увижу"».
Устинова арестовали на следующий день вечером. Он был в своей комнате, молился, как вдруг дверь распахнулась. Вошли сотрудники НКВД, устроили обыск. Осмотрев вещи, приказали ему одеться и проследовать за ними.
Следствие по делу Павла Устинова продлилось всего чуть больше месяца. Сначала священника поместили в муромскую тюрьму, но через несколько недель перевели в горьковскую (нижегородскую). Следователь предъявлял священнику обвинения:
— Вы, Устинов П.С., вместе с арестованными попами Ацеровым Д.В., Цветковым С.С. и другими под руководством Гладышева и епископа Симеона устраивали сборища в церкви, на которых планировали борьбу с Советской властью?
— Нет. Я никогда не возбуждал народ против Советской власти. Проповедовал на религиозно-нравственные темы, призывал к борьбе со страстями и пороками, но убеждён, что тем самым я не только не мешал социалистическому строительству, но, наоборот, вносил малую лепту в общее народное дело.
— Подтверждаете, что устраивали сборища в квартире епископа Симеона? И на них обсуждали новую Конституцию СССР?
— Нет. Только говорил, что новая Конституция СССР есть простая формальность, обман. Большевики себя уже сами выбрали и ещё раз выберут.
— Исходя из вышесказанного, признаёте себя виновным?
— Нет. Виновным себя не признаю.
В итоге Устинова обвинили в «руководстве Муромским филиалом к/р церковной диверсионно-террористической организации» и приговорили к «высшей мере наказания».
26 декабря в 15:00 приговор был приведён в исполнение. Вместе с Павлом Устиновым расстреляли ещё 13 «подельников». Их тела зарыли на Бугровском кладбище города Горький (Нижний Новгород). А семьям ничего не сообщили. Вообще ничего: ни приговор, ни его исполнение, ни место захоронения. Ничего не знающая Клавдия продолжала видеть мужа во снах, молиться за него: «17.10.1952. Сегодня исполнилось 15 лет, как взяли Павла. Может быть, он жив, может быть, его сегодня освободили, и я его скоро увижу?! Об этом даже страшно подумать. Этому страшно верить, но так хочется, чтобы это случилось! Я всю жизнь очень одинока, я всю жизнь не имела своего гнезда и всё чего-то ждала. Может быть, на закате жизни судьба улыбнётся мне? Я очень, очень жду и ждать не перестану до самой смерти».
26 декабря в 15:00 приговор был приведён в исполнение. Вместе с Павлом Устиновым расстреляли ещё 13 «подельников». Их тела зарыли на Бугровском кладбище города Горький (Нижний Новгород). А семьям ничего не сообщили. Вообще ничего: ни приговор, ни его исполнение, ни место захоронения. Ничего не знающая Клавдия продолжала видеть мужа во снах, молиться за него: «17.10.1952. Сегодня исполнилось 15 лет, как взяли Павла. Может быть, он жив, может быть, его сегодня освободили, и я его скоро увижу?! Об этом даже страшно подумать. Этому страшно верить, но так хочется, чтобы это случилось! Я всю жизнь очень одинока, я всю жизнь не имела своего гнезда и всё чего-то ждала. Может быть, на закате жизни судьба улыбнётся мне? Я очень, очень жду и ждать не перестану до самой смерти».
Этап VI
Мясо
зашевелился, и из листьев выпрыгнула большая чёрная собака, перегородив путь. В лунном свете отец Сергий увидел вместо пёсьей морды человеческое лицо. Из-под косматых бровей на него смотрели смеющиеся глаза. Священник осенил нечисть крестным знамением, и она отступила, но до самого города шла позади него. Возможно, это была просто одна из баек повидавшего многое Сидорова, но, так или иначе, пёс с человеческим лицом всё-таки догнал его 13 апреля 1937 года.
Был выходной солнечный день. Время близилось к обеду: Татьяна накрывала на стол, за которым уже собрались дети и выманивали на капусту Дымку из-за сундука. Отец Сергий вышел в сени за хлебом, который висел там в холщовом мешке. В дверях он столкнулся с плотным мужичком в милицейской форме. «Таня, за мной пришли», – услышала тихий голос Сидорова его жена. Никто из присутствующих не говорил ничего лишнего: не было ни слёз, ни обнадёживающих слов, ни приказов. Татьяна достала из сундука уже давно заготовленный узелок, протянула его мужу. Отец Сергий обнял старшего сына, поцеловал младших детей, перекрестил их. Собирался проститься с Татьяной, но вмешался милиционер: «Жена может проводить». Дверь за родителями закрылась, и дети сели за стол одни.
Был выходной солнечный день. Время близилось к обеду: Татьяна накрывала на стол, за которым уже собрались дети и выманивали на капусту Дымку из-за сундука. Отец Сергий вышел в сени за хлебом, который висел там в холщовом мешке. В дверях он столкнулся с плотным мужичком в милицейской форме. «Таня, за мной пришли», – услышала тихий голос Сидорова его жена. Никто из присутствующих не говорил ничего лишнего: не было ни слёз, ни обнадёживающих слов, ни приказов. Татьяна достала из сундука уже давно заготовленный узелок, протянула его мужу. Отец Сергий обнял старшего сына, поцеловал младших детей, перекрестил их. Собирался проститься с Татьяной, но вмешался милиционер: «Жена может проводить». Дверь за родителями закрылась, и дети сели за стол одни.
ак-то поздней ночью Сергий Сидоров возвращался домой по просёлочной дороге. Вдруг один из кустарников на обочине
К
Татьяна с отцом Сергием пошли вдвоём к зданию НКВД. Не было ни обыска, ни наручников, ни конвоя: следовал милиционер несколько на отдалении от шедшей под руку семейной пары. Они двинулись по центральной улице Мурома, вымощенной плиткой, ступали по камням, вытащенным из обломков городских храмов. По дороге встречались знакомые Сидорова – они, ни о чём не догадываясь, весело здоровались с ним. Отец Сергий кивал в ответ. Никто не знал, что у здания НКВД священник навсегда простится со своей женой. Когда на следующий день Татьяна пришла с передачей, ей сказали, что Сергея Сидорова ещё ночью отправили в Москву. Его сразу доставили в Бутырскую тюрьму, обрили и посадили в камеру. Из личных вещей в протоколе обыска числились лишь православный крест, пояс от толстовки и 15 копеек.
На следующий день его жена, Наталья Шаховская, уже сидела в поезде на Москву – ехала в столицу, чтобы сообщить о случившемся родственникам и близким друзьям мужа. Вдруг в её вагон под конвоем ввели самого Шика, посадили в противоположном конце. Заговорить Наталья и Михаил не решались, только обменивались взглядами. Шаховская подышала на стекло и на запотевшем окне написала пальцем что-то неразборчивое, возможно, понятное только Шику. В ответ он сделал то же самое, но вместо слов вывел на исцарапанном стекле – крест.
Ещё раньше в Бутырку из Малоярославца доставили отца Михаила Шика. В феврале у него в доме прошёл обыск. Трое одетых в штатское сотрудников ОГПУ пришли во время обеда, объявили, что у них имеется ордер «на обыск». Но Шик прочёл в документе: «на обыск и арест». Сотрудники не зверствовали, вели себя сдержанно. Осмотрели книги, не нашли ничего запрещённого и уже собирались уходить. На выходе попросили священника показать им паспорт. Документы хранились в пристройке, которую трое в штатском до этого не заметили и не осмотрели. Потайную комнату Шик выдал сам. Обыск начался заново. В пристроенном кабинете быстро нашли церковное облачение, антиминс и другие церковные атрибуты, тут же превратившиеся в улики. Отца Михаила забрали.
Иереи Михаил Шик, Сергий Сидоров, Пётр Петриков и иеромонах Андрей Эльбсон, а также десять женщин проходили по одному уголовному делу «группы епископа Арсения Жадановского» и обвинялись в создании «контрреволюционной нелегальной монархической организации церковников "Истинно-православная церковь"». Также всем обвиняемым вменялось участие в нелегальных выборах нового главы Церкви. Сидоров шёл по делу как «руководитель Владимирского, Муромского и Киржачского филиалов этой организации». Об этом отец Сергий узнал на первом допросе 11 июня 1937 года, спустя два месяца пребывания в камере. Из всех предъявленных обвинений он согласился лишь с одним: проводил нелегальную панихиду на Ваганьковском кладбище, где была похоронена Вера Ладыгина – женщина, воспитавшая маленького Сергея после смерти его матери. Память о «мамочке» священник не хотел стирать даже с протоколов допроса. Этих показаний для органов Госбезопасности оказалось достаточно: восемь человек из четырнадцати были приговорены к «высшей мере наказания».
Их разбудили ночью 27 сентября: в камеры зашли конвоиры, вывели во двор тюрьмы, построили, провели перекличку, после чего стали грузить в ожидающие автозаки. Вместо опознавательных знаков на кузовах машин были надписи «ХЛЕБ» или «МЯСО». Таким способом заключённых скрыто перевозили по столице, не нарушая спокойствия советских граждан. У арестованных дурной приметой считалось оказаться в «МЯСЕ». На вопросы, куда и зачем их везут, надсмотрщики не отвечали – было запрещено приказом. Наполненные автозаки, разрезая фарами тьму, быстро выехали из Москвы и колонной двинулись по Варшавскому шоссе в сторону посёлка Дрожжино.
Их разбудили ночью 27 сентября: в камеры зашли конвоиры, вывели во двор тюрьмы, построили, провели перекличку, после чего стали грузить в ожидающие автозаки. Вместо опознавательных знаков на кузовах машин были надписи «ХЛЕБ» или «МЯСО». Таким способом заключённых скрыто перевозили по столице, не нарушая спокойствия советских граждан. У арестованных дурной приметой считалось оказаться в «МЯСЕ». На вопросы, куда и зачем их везут, надсмотрщики не отвечали – было запрещено приказом. Наполненные автозаки, разрезая фарами тьму, быстро выехали из Москвы и колонной двинулись по Варшавскому шоссе в сторону посёлка Дрожжино.
Там находился спецобъект «Бутово» – стрелковый полигон сотрудников НКВД, расположившийся на территории бывшей подмосковной усадьбы. Накануне Первой мировой войны её приобрёл орехово-зуевский промышленный магнат Иван Иванович Зимин и построил вместо неё конный завод. Директором стал племянник магната – Иван Леонтьевич Зимин, который в 1915 году ушёл на фронт, получил за боевые заслуги Георгиевский крест, но вернулся с тяжёлым ранением и зависимостью от морфия. Болезнь разрушила его семейные отношения. Несмотря на судьбу руководителя, конный завод вырос, и стал одним из одиннадцати крупнейших в центральной России. Зимин оставался управляющим и при советской власти. Правда, уже в 1930-м его обвинили в растратах и заключили в Бутырскую тюрьму. Суд оправдал коннозаводчика, но всё его состояние ушло на хороших адвокатов, и через несколько лет Зимин умер в нищете. А территория бывшей усадьбы в 1934 году перешла во владение хозяйственного управления НКВД. В стране продолжался голодомор, сотрудникам Ведомства требовалось продуктовое обеспечение, поэтому на месте конного завода организовали огородное хозяйство. Но двухкилометровую зону в самом центре никто не засеивал: её обнесли забором и стали там практиковаться в стрельбе. С 1937-го стреляли не по мишеням – Бутовский полигон начали использовать для расстрела и захоронения, приговорённых к «высшей мере наказания».
Дверь автозака с тяжёлым лязгом раскрылась. Была всё ещё глубокая ночь, и Сергий Сидоров не мог разглядеть, кто перед ним стоит. Пассажиров выводили по одному. Выпрыгивая из машины, они должны были назвать свои имя, год рождения и статью. Офицеры, стоящие снаружи, светили им в лица фонариками, сверяли с фотографией из уголовного дела, после чего ставили карандашом галочку напротив фамилии в списке и вели осуждённых в восьмидесятиметровый деревянный барак. Тогда в нём собрали 272 человека. Они, истощённые бессонными ночами, голодом и допросами, медленно шатались и никак не могли понять, что от них хотят. Но за любую заминку тут же получали удар от стоящего рядом вооружённого конвоира.
— Петриков Пётр Сергеевич, 1903 года рождения, 58.10 – Сидоров услышал где-то вдалеке голос старого друга.
Спустя несколько минут очередь дошла до него самого. В свете фонарика сверили лицо с фотографией в документах. Всё было верно. Напротив фамилии в списке появилась галочка.
— Шик Михаил Владимирович, 1887 года рождения, 58.10 – послышался позади ещё один знакомый голос.
Перекличка закончилась. Никаких ошибок сотрудники НКВД не допустили, все были на месте, никто не сбежал. К заключённым вышел офицер, громким голосом объявил: «Вы приговорены к "высшей мере наказания"». Говорил что-то ещё, но все остальные слова не имели значения, не помещались в голове, прибитой одной короткой фразой.
На рассвете их стали по одному выводить из барака. Когда кто-то выходил, через несколько минут слышался одиночный выстрел. Возвращались за следующим. Кажется, мимо Сидорова провели отца Арсения Жадановского. Потом забрали и его самого. Подталкиваемый в спину, священник шёл рывками – ноги не слушались. Подвели к вырытому рву, поставили у края, лицом к яме. На глубине виднелась свежая насыпь земли, из-под неё торчали обрывки одежды, копошились насекомые. Трупный запах сбивал с толку, прогонял сознание. Позади священника клацнул затвор пистолета.
Спустя несколько минут очередь дошла до него самого. В свете фонарика сверили лицо с фотографией в документах. Всё было верно. Напротив фамилии в списке появилась галочка.
— Шик Михаил Владимирович, 1887 года рождения, 58.10 – послышался позади ещё один знакомый голос.
Перекличка закончилась. Никаких ошибок сотрудники НКВД не допустили, все были на месте, никто не сбежал. К заключённым вышел офицер, громким голосом объявил: «Вы приговорены к "высшей мере наказания"». Говорил что-то ещё, но все остальные слова не имели значения, не помещались в голове, прибитой одной короткой фразой.
На рассвете их стали по одному выводить из барака. Когда кто-то выходил, через несколько минут слышался одиночный выстрел. Возвращались за следующим. Кажется, мимо Сидорова провели отца Арсения Жадановского. Потом забрали и его самого. Подталкиваемый в спину, священник шёл рывками – ноги не слушались. Подвели к вырытому рву, поставили у края, лицом к яме. На глубине виднелась свежая насыпь земли, из-под неё торчали обрывки одежды, копошились насекомые. Трупный запах сбивал с толку, прогонял сознание. Позади священника клацнул затвор пистолета.
Татьяна Арцыбушева так и осталась в Муроме, продолжая заниматься нелегальными церковными службами. Она покинула дом на улице Лакина лишь перед самой смертью в 1942 году, поступив на лечение в московский диспансер. Домашние церкви так и не были разрешены ни при её жизни, ни после: в 1946-м её сына Алексея арестовали за участие в православном подполье и приговорили к шести годам лагерей. Отбыв срок до конца, он был сослан в Инту «на вечное поселение», но прожил там только четыре года – его реабилитировали в 1956 году, и он поселился в Москве, где продолжил карьеру художника. Старший сын Серафим во время войны пропал без вести в боях под Ленинградом. О том, что всё это время их мать Татьяна была тайной монахиней Таисией, принявшей постриг в Даниловом монастыре, они узнали только из её предсмертных записок.

Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Клавдия Устинова действительно ждала отца Павла до самой смерти. Она чуть ли не каждый вечер, сидя одна в комнате, перечитывала письма и стихи мужа. Так она будто чувствовало его присутсвие рядом с собой, представляла, как он стоит у комода и глядит на неё грустными глазами. Иногда Клавдия видела его настолько ясно, что становилось жутко, и она выбегала из комнаты. О смерти отца Павла жена узнала только в 1956 году, когда ей неожиданно пришла справка из Президиума Владимирского облсуда о реабилитации Устинова за отсутствием состава преступления. С этой вестью Клавдия прожила лишь до 1961 года, и была похоронена детьми на сельском кладбище Брутова во Владимирской области.

Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Татьяна Сидорова, через три месяца после ареста отца Сергия, родила пятого ребёнка – мальчика в честь отца назвали Серёжей. Он был очень нервным ребёнком, начинал заливаться криками, если его спускали с рук. Поэтому Серёжу не взяли в ясли, и старшим детям приходилось по очереди с ним нянчится. Мать в это время работала медсестрой на две смены: в медпункте, а затем ещё в поликлинике. Три ставки, восемнадцать часов в день без выходных и отпусков. Во время войны соседи думали, что её эвакуировали из блокадного Ленинграда: она спала по три-четыре часа в сутки, практически не ела, только пила горячую воду, спала на сундуке, «чтобы не проспать». Зато дети выросли здоровыми и пережили войну.
Они не отступились от отца и его веры, никогда не были ни пионерами, ни комсомольцами, но всё равно получили высшее образование и благополучно устроились в жизни. Последние годы их мать прожила без нужды – уже благодаря своим выросшим детям – и всё не переставала верить, что её муж жив и однажды вернётся. Ведь в 1937 году ей сообщили, что Сидоров был приговорён к десяти годам лагерей без права переписки. Только этой надеждой и жила Татьяна оставшиеся годы, а когда весной 1956-го прочитала известие о реабилитации мужа и узнала, что он уже двадцать лет как мёртв, не выдержала и скончалась.

Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Наталья Шаховская, после долгих хождений по московским тюрьмам в поисках информации о муже, получила справку: «Выслан в дальние лагеря без права переписки» после долгих хождений по московским тюрьмам в поисках информации о муже. Затем она стала писать запросы во все известные ей трудовые лагеря, но из них приходили отрицательные ответы. В доме Шика копились открытки – форменные, отпечатанные по-типографски и менее официальные, с советом обратиться в другой лагерь – из Севвостлага, из отделения УНКВД по Архангельской области, из Дальлага и других. Но надежда не угасала, тем более, что появился след: один священник в письме своим родным рассказывал, как ехал по этапу в среднеазиатские лагеря вместе с отцом
Сергием Сидоровым и отцом Михаилом Шиком. Дмитрий, сын Шика, поехал за отцом в Казахстан, и там ему рассказали о двух священниках, живших в юрте, но на этом поиски зашли в тупик. Искал отца Михаила и академик Владимир Вернадский, друг семьи. В декабре 1943 года он послал запрос о судьбе Михаила Шика на имя всё того же Михаила Калинина. Через месяц по телефону снова сообщили неправду: «М.В. Шик умер 26 сентября 1938 года в дальнем лагере вскоре после приезда туда». Но даже этого Наталья уже не узнала – она скончалась в 1942-м от туберкулёза горла и лёгких, будучи в немецкой оккупации. Умирая, она всё ещё верила, что муж жив, и своё последнее письмо писала на его имя: «Июнь 1942 г. Дорогой мой, бесценный друг, вот уже и миновала последняя моя весна. А Ты? Всё ещё загадочна, таинственна Твоя судьба, всё ещё маячит надежда, что Ты вернёшься, но мы уже не увидимся, – а так хотелось Тебя дождаться. Но не надо об этом жалеть. Встретившись, расставаться было бы ещё труднее, а мне пора...». Даже в годы войны Шаховская не бросила дело мужа: в потайной комнате Шика продолжали совершать литургии, но уже другие священники.

Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Бутовская спецзона была расформирована в 1957 году, на её месте возник дачный посёлок КГБ при Верховном совете СССР. Летние домики от места массового захоронения отделял забор с колючей проволокой – пройти через него разрешили лишь в 1993-м. Правительство Москвы установило там мемориальный знак, разрешило прийти родственникам погибших и почтить их память. За прошедшие годы территория пришла в запустение. Потомки репрессированных увидели перед собой не место смерти мучеников, а непроходимый бурьян и заболоченные канавы. Несколько десятков человек объединились в инициативную группу, стали убирать территорию. В 1994 году на Бутовском полигоне установили деревянный поклонный крест. Спроектировал его художник и скульптор Дмитрий Шаховский – сын Михаила Шика.

Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
- Арцыбушев А.П. Милосердия двери. Автобиографический роман узника ГУЛАГа. – М.: Никея, 2016. – изд. 2-е, исправленное. – с 464.
- Арцыбушев А.П. Часть 1: «Всё, что можно было съесть, было в наших руках» | фильм #191 МОЙ ГУЛАГ. – [электронный ресурс] (дата обращения 17.10.2020)
- Беглов А.Л. В поисках «безгрешных катакомб». Церковное подполье в СССР - Москва: Политическая энциклопедия, 2018. – 352 с.
- Гарькавый И.В. Бутовский Полигон – одно из самых ужасных и святых мест на земле. Об истории этого места рассказывает Игорь Гарькавый. – [электронный ресурс] (дата обращения: 17.10.2020)
- Журинская М.А. Земля святая. О подмосковном «полигоне» в посёлке Бутово, месте массовых расстрелов в 1937 г. // Альфа и Омега. М., 1997. – № 2 (13). – С. 178-189.
- Из дневника отца Павла (П. С. Устинова) // Трагедия России – судьбы ее граждан: Воспоминания о репрессиях / Владимирск. регион. отд-ние рос. о-ва «Мемориал». «Статус кво полиграфия», 2004. – с. 94-97.
- Кочетов Д. Б. Арсений // Православная энциклопедия. – М. : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2001. – Т. III. – С. 399-401. – 752 с.
- Митрофанов Г.Н. Цикл лекций «История Русской Православной Церкви. XX век». - [электронный ресурс] (дата обращения 17.10.2020)
- Открытый список: Андрей (Эльбсон Борис Яковлевич) (1896). – [электронный ресурс] (дата обращения: 18.10.2020)
- Открытый список: Петриков Петр Сергеевич (1903). – [электронный ресурс] (дата обращения: 18.10.2020)
- Открытый список: Сидоров Сергей Алексеевич (1895). – [электронный ресурс] (дата обращения: 18.10.2020)
- Открытый список: Устинов Павел Сергеевич (1890). – [электронный ресурс] (дата обращения: 18.10.2020)
- Открытый список: Шик Михаил Владимирович. – [электронный ресурс](дата обращения: 18.10.2020)
- Павел и Клавдия. Дневники супруги русского священника. – Тула: Гриф и К, 2012. – 560 с.
- Раевский С. П. Пять веков Раевских. – М. : Вагриус, 2005. – 592 с. : портр., ил.
- Сайт Сертенской церкви г. Мурома. – [электронный ресурс] (дата обращения: 17.10.2020)
- Сард М., Росси Ж. Жак-француз. В память о ГУЛАГе. – М: Новое литературное обозрение, 2019. – 392 с.
- Священник Сергий Сидоров и его семья. – [электронный ресурс] (дата обращения 17.10.2020)
- Сидоров С.А. Записки священника Сергия Сидорова : С прил. его жизнеописания, сост. дочерью, В. С. Бобринской. – М.: Православ. Свято-Тихонов. Богослов. Ин-т, 1999. – 296 с.
- Фролов П. Откровения палача с Лубянки. Кровавые тайны 1937 года. – М.: Эксмо, 2011. – 256 с.
- Шик Е. Воспоминания об отце. – [электронный ресурс] (дата обращения: 17.10.2020)
1. митрополит Пётр Полянский
2. Патриарх Тихон
3. митрополит Сергий Страгородский
4. «Вместо очага дурмана – дворец»
5. Пётр Арцыбушев
6. с.Дивеево, 1927 год
7. Часовня на месте источника Серафима Саровского, 1900-е годы
8. с.Дивеево
8. Андрей Эльбсон
9. г.Муром. Ивановская улица. Фото Н.Н. Сажина. 1929 год
10. г.Муром. Троицкий монастырь. Фото А.М. Дианова. 1934 год. Из цифрового архива А.Р. Комлева
11. г.Муром. Митинг у памятника В.И. Ленину перед Троицким монастырем. 7 Ноября 1932 г. Из цифрового архива А.Р. Комлева
12. Павел Устинов
13. Клавдия Устинова
14. г.Владимир, 1929 год
15. г.Муром. Ярмарка на Соборной площади. Фото И.С. Кузнецова. 1929 год
16. г.Муром. Рождественская ул. Скверик перед будущей школой № 3 Из фото-архива Беспалова А.Н.
17. г.Муром. Группа детей на склоне у Космодемианской церкви. 1920-е годы
18. Разорение храма
19. Закрытие храма
20. Дом Михаила Шика в Малоярославце
21. Татьяна Кандиба
22. г.Муром. Магазин №1. Отдел игрушек. 1930-е годы
23. г.Муром, ул.Советская, 46. 1936 год
24. г.Муром. Митинг у памятника В.И. Ленину перед Троицким монастырем. 1 Мая 1937 г. Из цифрового архива А.Р. Комлева
25. Михаил Шик, 1926 год. Из семейного архива Шиков-Шаховских
26. Дом Михаила Шика
27. Ворота Бутовского полигона
2. Патриарх Тихон
3. митрополит Сергий Страгородский
4. «Вместо очага дурмана – дворец»
5. Пётр Арцыбушев
6. с.Дивеево, 1927 год
7. Часовня на месте источника Серафима Саровского, 1900-е годы
8. с.Дивеево
8. Андрей Эльбсон
9. г.Муром. Ивановская улица. Фото Н.Н. Сажина. 1929 год
10. г.Муром. Троицкий монастырь. Фото А.М. Дианова. 1934 год. Из цифрового архива А.Р. Комлева
11. г.Муром. Митинг у памятника В.И. Ленину перед Троицким монастырем. 7 Ноября 1932 г. Из цифрового архива А.Р. Комлева
12. Павел Устинов
13. Клавдия Устинова
14. г.Владимир, 1929 год
15. г.Муром. Ярмарка на Соборной площади. Фото И.С. Кузнецова. 1929 год
16. г.Муром. Рождественская ул. Скверик перед будущей школой № 3 Из фото-архива Беспалова А.Н.
17. г.Муром. Группа детей на склоне у Космодемианской церкви. 1920-е годы
18. Разорение храма
19. Закрытие храма
20. Дом Михаила Шика в Малоярославце
21. Татьяна Кандиба
22. г.Муром. Магазин №1. Отдел игрушек. 1930-е годы
23. г.Муром, ул.Советская, 46. 1936 год
24. г.Муром. Митинг у памятника В.И. Ленину перед Троицким монастырем. 1 Мая 1937 г. Из цифрового архива А.Р. Комлева
25. Михаил Шик, 1926 год. Из семейного архива Шиков-Шаховских
26. Дом Михаила Шика
27. Ворота Бутовского полигона

Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.

Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.

Наш связной никогда не спит, но очень медленно моргает
ТЕКСТ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
ИЛЛЮСТРАЦИИ:
ФОТОГРАФИИ:
АНИМАЦИЯ:
ДИЗАЙН И ВЁРСТКА:
ИСТОРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
ИЛЛЮСТРАЦИИ:
ФОТОГРАФИИ:
АНИМАЦИЯ:
ДИЗАЙН И ВЁРСТКА:
2020
geschernozem@bk.ru
geschernozem@bk.ru
Мобильную версию проекта удобно читать в дороге, но для более эффектного погружения рекомендуем посетить страницу с компьютера!
Все 1930-е годы они скрывались по чужим квартирам, устраивали собрания, обсуждали на них свержение правительства и готовили тайные выборы патриарха Русской Церкви. Филиалы их организации создавались почти в каждом регионе Советского Союза, а в подпольную деятельность вовлекались городские и сельские жители
В списках подозреваемых значились простые священники, их жёны и дети. Для НКВД они были участниками подпольной религиозной организации «Истинно-православная церковь». И на её след им удалось напасть в старом провинциальном Муроме.
В начале 1920-х годов Русская Православная Церковь оставалась влиятельнейшей религиозной организацией, но её юридическое положение сильно пошатнулось. Центральное церковное управление в лице Его Святейшества и Синода было лишено регистрации. Сам Патриарх Тихон умер от сердечной недостаточности в 1925-м, находясь под следствием и почти уже приговоренный к «высшей мере наказания» за «сношения с иностранными государствами». Перед смертью он, словно предрекая будущее Церкви, произнёс:
— Теперь я усну… крепко и надолго. Ночь будет длинная, тёмная-тёмная.
Опустевший патриарший престол должен был занять местоблюститель Тихона – Пётр Полянский, но и его почти сразу после смерти Патриарха взяли под стражу и отправили в ссылку на берег Обской губы в посёлок Хэ. На свободе остался лишь заместитель патриаршего местоблюстителя Сергий Страгородский, митрополит Горьковский (Нижегородский) – по сути, заместитель заместителя патриарха. К такому положению дел Церковь оказалась не готова: полномочия Страгородского не были чётко определены и единого мнения на этот счёт в среде священнослужителей не сформировалось. Страгородский же посчитал себя полноценным главой, имеющим право принимать самостоятельные решения за всю Русскую Православную Церковь. Но это оспаривали другие митрополиты, претендовавшие на власть. Некогда единая организация раскололась на множество критически настроенных группировок, из-за чего в среде священнослужителей началась смута.
— Теперь я усну… крепко и надолго. Ночь будет длинная, тёмная-тёмная.
Опустевший патриарший престол должен был занять местоблюститель Тихона – Пётр Полянский, но и его почти сразу после смерти Патриарха взяли под стражу и отправили в ссылку на берег Обской губы в посёлок Хэ. На свободе остался лишь заместитель патриаршего местоблюстителя Сергий Страгородский, митрополит Горьковский (Нижегородский) – по сути, заместитель заместителя патриарха. К такому положению дел Церковь оказалась не готова: полномочия Страгородского не были чётко определены и единого мнения на этот счёт в среде священнослужителей не сформировалось. Страгородский же посчитал себя полноценным главой, имеющим право принимать самостоятельные решения за всю Русскую Православную Церковь. Но это оспаривали другие митрополиты, претендовавшие на власть. Некогда единая организация раскололась на множество критически настроенных группировок, из-за чего в среде священнослужителей началась смута.
Полянский
Патриарх Тихон
Страгородский
Самым заметным противником канонической церкви стало движение «обновленцев», или «Живая Церковь», созданная ещё при патриархе Тихоне в 1922 году бывшим черносотенцем, протоиереем Александром Введенским. Её последователи приняли предложение Льва Троцкого и согласились сотрудничать с НКВД, за что, в отличие от РПЦ, получили официальную регистрацию и право стать Высшим церковным управлением. Одобренные правительством «обновленцы» привлекли к себе напуганных прихожан, но чувство безопасности было мнимым – «Живая Церковь» на несколько лет стала послушным инструментом в руках органов ОГПУ, контролирующих её священников и храмы.
Советское правительство предложило официальный юридический статус и Русской Православной Церкви – взамен на выполнение Страгородским нескольких требований. Власти хотели, чтобы Патриархия согласовывала все кадровые назначения епископов с начальником шестого отделения ОГПУ по борьбе с православной церковью и иными конфессиями и сектами Евгением Тучковым, осудила зарубежные епархии РПЦ, а также выпустила документ, в котором утвердила бы лояльность коммунистическому строю. Страгородский согласился лишь на последнее. Такой ответ правительство не устроил – священника арестовали и четыре месяца продержали в застенках, пока он всё же не согласился на полное сотрудничество.
Советское правительство предложило официальный юридический статус и Русской Православной Церкви – взамен на выполнение Страгородским нескольких требований. Власти хотели, чтобы Патриархия согласовывала все кадровые назначения епископов с начальником шестого отделения ОГПУ по борьбе с православной церковью и иными конфессиями и сектами Евгением Тучковым, осудила зарубежные епархии РПЦ, а также выпустила документ, в котором утвердила бы лояльность коммунистическому строю. Страгородский согласился лишь на последнее. Такой ответ правительство не устроил – священника арестовали и четыре месяца продержали в застенках, пока он всё же не согласился на полное сотрудничество.
Напуганная паства стала уходить к «обновленцам», священнослужители окончательно разочаровались в новом лидере церкви, атеистическое государство диктовало свои условия – обстановка накалялась. А Сергий Страгородский решил попытаться укрепить свою церковную власть. 27 апреля 1934 года он созвал Временный патриарший Священный синод, чтобы стать на нём митрополитом Московским и получить титул «блаженнейший». Титул был понятным для всех знаком – раньше «блаженнейшими» называли лишь единоличных лидеров автокефальных церквей. Решив формальные вопросы, Страгородский распустил Синод и остался единственным официальным главой Русской Церкви. Но власть только обременила его: Страгородский стал подозрительным и всё меньше доверял ближайшему окружению. Рядом с собой он видел не только критически настроенных священнослужителей, но и тайных агентов НКВД. У этих страхов были основания: чекисты и правда подбирались всё ближе к главе Русской Церкви. Его приближённый, викарный епископ Сергий Воскресенкий, уже был завербован, о чём ходили слухи даже за пределами Московской патриархии.
Теряла Церковь своё некогда мощнейшее влияние и среди простых людей. В 1932 году вокруг антирелигиозной газеты «Безбожник» возникло общественное добровольческое движение «Союз воинствующих безбожников». В него вошло более 5,5 миллионов враждебно настроенных атеистов, которые провозгласили начавшуюся вторую пятилетку – «Пятилеткой безбожия». Они составили подробный план искоренения религии из Советского Союза, продумали всё до мелочей: когда закрыть церковные школы, как уничтожить монастыри и храмы, куда сослать священников, монахов и наиболее истово верующих. Поблажек не давали даже «обновленцам» – любое проявление религии запрещалось. И хотя план «безбожников» не был официальным документом, ему аккомпанировала государственная политика, вдруг сменившая курс на открытые репрессии духовенства.
Первомайская демонстрация, 1932
Для легализации церковных общин власть выдвинула такие требования, которые было почти невозможно выполнить, а назначенное налоговое обложение – уплатить. Приходилось проводить богослужения, нарушая закон. Это каралось арестами и закрытием храмов. Монахи, изгнанные из своих монастырей, создавали подпольные общины в коммунальных квартирах, а верующие миряне открывали церкви в собственных домах. Всё делалось в строжайшем секрете, но в крупных городах церковные сборища так или иначе выслеживали и ликвидировали сотрудники НКВД. А вернувшимся из лагерей ГУЛАГа священнослужителям вовсе запрещалось приближаться к большим населённым пунктам ближе, чем на 101 километр. Оставаться в больших городах становилось опасно.
Православная церковь в поисках спасения бежала в провинцию, где ещё сохранились древние монастыри и храмы. Подходящим местом оказался Муром, ставший одним из главных оплотов православия. В нём к началу 1930-х годов развернулась одна из крупнейших подпольных церковных сетей со своими организаторами, паролями-явками, потайными комнатами и вечным бегством от слежки сотрудников органов Госбезопасности.
Этап I
Чужая вдова
Чужая вдова
— Ляксандровна, кутай рёбят-то в тулуп! Помёрзнут ведь, голые совсем ведь! Ентакий мороз-то!
В сани полетели с плеч едко пахнущие задубевшие тулупы, которыми женщины тут же стали обкладывать как досками двух мальчиков, сонно лупящих глаза на давно знакомые лица. Сельские бабы заворачивали в платки варёные яйца, хлеб, невпопад совали свёртки под локоть или прямо в руки, торопливо завязывающие узлы.
— Всё, залазь, родная! Но! Пошла!
Телега тронулась. Декабрьское солнце 1930-го только начинало высовывать макушку из-за покатых крыш села Дивеево, тянуться бледными руками к укатанной дороге, по которой саням предстояло проскакать 64 километра – в Арзамас, куда в здание местного ГПУ несколько дней назад тридцатичетырёхлетнюю Татьяну Арцыбушеву вызвали вместе с детьми.
В сани полетели с плеч едко пахнущие задубевшие тулупы, которыми женщины тут же стали обкладывать как досками двух мальчиков, сонно лупящих глаза на давно знакомые лица. Сельские бабы заворачивали в платки варёные яйца, хлеб, невпопад совали свёртки под локоть или прямо в руки, торопливо завязывающие узлы.
— Всё, залазь, родная! Но! Пошла!
Телега тронулась. Декабрьское солнце 1930-го только начинало высовывать макушку из-за покатых крыш села Дивеево, тянуться бледными руками к укатанной дороге, по которой саням предстояло проскакать 64 километра – в Арзамас, куда в здание местного ГПУ несколько дней назад тридцатичетырёхлетнюю Татьяну Арцыбушеву вызвали вместе с детьми.
Арцыбушевы поселились в Дивеево в начале ХХ века: в 1915 году глава семейства, Петр Михайлович, ликвидировал своё нотариальное дело в Петербурге, бросил всё и поселился вместе с женой в небольшом селе у стен Дивеевского женского монастыря, купив участок земли с домиком. Со временем к дому были пристроены анфилада из семи комнат, кухня с русской печью, баня, сарай, в котором поселилась корова Кукушка, и сводчатый погреб, в котором разместились кадушки с огурцами и мочеными яблоками, сорокавёдерные бочки для квашеной капусты и солёных груздей. Из окон комнат виднелись золочёные маковки куполов, сквозь бревенчатые стены слышались колокола церкви Казанской Божией Матери, расположившейся в трёхстах метрах от крыльца; а мимо арцыбушевского сада ходили монахини. Они-то и стали примером для дочерей Петра Арцыбушева – Наталия и Мария впоследствии ушли в Дивеевский монастырь и стали схимонахиней Митрофанией и монахиней Варварой.
Село Дивеево, 1920-е
Но сотрудники Госбезопасности о последней воле умирающего не знали и спустя десять лет вызвали вдову в Арзамас, где следователь, поглядывая на отрешённо стоящую перед ним молодую женщину, читал с листа:
— Татьяна Александровна Арцыбушева, вдова расстрелянного вредителя М.П. Арцыбушева...
«М.П.» – Михаил Петрович – Арцыбушев, директор рыбных промыслов Волги и Каспия, был родным братом мужа Татьяны и обожаемым дядей Мишей для её мальчиков. После смерти отца и брата, он остался единственным мужчиной в роду Арцыбушевых и владельцем дома в Дивеево, но почти не жил в нём – лишь раз в год приезжал в отпуск на санях, покрытых рогожей, под которой бились боками осетры и севрюги, подпрыгивали на ухабах кули с копчёной воблой и серебристыми заломами. Остальная семья жила у него на иждивении, и благодаря покровительству дяди Миши их хозяйство не тронули в разгул коллективизации и раскулачивания. Но всё быстро изменилось. На газетных полосах отпечатали: «Приговор Верховного суда СССР по делу о вредительстве мясной и рыбной промышленности» и в столбик сорок фамилий, приговорённых к высшей мере наказания. «М.П. Арцыбушев» был отчёркнут, а ниже значилось: «Приговор приведён в исполнение».
— Татьяна Александровна Арцыбушева, вдова расстрелянного вредителя М.П. Арцыбушева...
«М.П.» – Михаил Петрович – Арцыбушев, директор рыбных промыслов Волги и Каспия, был родным братом мужа Татьяны и обожаемым дядей Мишей для её мальчиков. После смерти отца и брата, он остался единственным мужчиной в роду Арцыбушевых и владельцем дома в Дивеево, но почти не жил в нём – лишь раз в год приезжал в отпуск на санях, покрытых рогожей, под которой бились боками осетры и севрюги, подпрыгивали на ухабах кули с копчёной воблой и серебристыми заломами. Остальная семья жила у него на иждивении, и благодаря покровительству дяди Миши их хозяйство не тронули в разгул коллективизации и раскулачивания. Но всё быстро изменилось. На газетных полосах отпечатали: «Приговор Верховного суда СССР по делу о вредительстве мясной и рыбной промышленности» и в столбик сорок фамилий, приговорённых к высшей мере наказания. «М.П. Арцыбушев» был отчёркнут, а ниже значилось: «Приговор приведён в исполнение».
Пётр Арцыбушев
Михаил Арцыбушев
Татьяна Арцыбушева
На следующий день в Дивеево пришли с обыском: безоговорочное «Открывай!», зажатый в обветренных пальцах ордер на конфискацию движимого и недвижимого имущества, сваленные в кучу посреди комнаты книги, иконы, кухонная утварь, одежда, одеяла, подушки, детские тёплые вещи. «Женщина, не трогать валенок! Положь назад!» – и детские шапки с портянками летели на холодный пол.
— Я вдова, но не его. Он не мой муж, и это не его дети!
— Молчать! Мне наплевать, кто твой муж! Татьяна Александровна Арцыбушева, вдова расстрелянного вредителя М.П. Арцыбушева, и дети его, Серафим и Алексей, приговариваются к ссылке «минус шесть», – по столу к осуждённой проскользил лист с пустующей графой «место ссылки».
Ссылка «минус шесть» или «минус двенадцать» означала, что человек мог сам выбрать себе место отбывания наказания, за исключением шести или двенадцати наиболее крупных городов СССР и всех прилежащих к ним районов, а также пограничных областей страны (Карелия, Мурманск, Кавказ, Крым). То есть на самом деле мест, которые можно было выбрать, оставалось не так много. Татьяна Арцыбушева вписала в документы Муром, который и должен был стать её новым домом. И вот вихлявый дребезжащий поезд покатил через заснеженную Оку навстречу белокаменным монастырским стенам и уютным струйкам дыма над белоснежными крышами. Тулупы же, которыми замерзающие дивеевские матроны заботливо укутали детей, Татьяна отправила с возницей обратно в село.
— Я вдова, но не его. Он не мой муж, и это не его дети!
— Молчать! Мне наплевать, кто твой муж! Татьяна Александровна Арцыбушева, вдова расстрелянного вредителя М.П. Арцыбушева, и дети его, Серафим и Алексей, приговариваются к ссылке «минус шесть», – по столу к осуждённой проскользил лист с пустующей графой «место ссылки».
Ссылка «минус шесть» или «минус двенадцать» означала, что человек мог сам выбрать себе место отбывания наказания, за исключением шести или двенадцати наиболее крупных городов СССР и всех прилежащих к ним районов, а также пограничных областей страны (Карелия, Мурманск, Кавказ, Крым). То есть на самом деле мест, которые можно было выбрать, оставалось не так много. Татьяна Арцыбушева вписала в документы Муром, который и должен был стать её новым домом. И вот вихлявый дребезжащий поезд покатил через заснеженную Оку навстречу белокаменным монастырским стенам и уютным струйкам дыма над белоснежными крышами. Тулупы же, которыми замерзающие дивеевские матроны заботливо укутали детей, Татьяна отправила с возницей обратно в село.
Паломник в Дивеево, 1920-е
К этому времени уже были закрыты Саровский и Дивеевский монастыри, да и всю Россию захлестнула борьба со «служителями культа». Декрет советского правительства «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» 1918 года предусматривал национализацию церковного имущества. Власть рассматривала монастыри только как крупных собственников, поэтому обителям пришлось тяжелее всего. Пройдя через промежуточную форму сельскохозяйственной артели, они окончательно закрылись. В 1927 году на Рождество Божией Матери в Дивеевской обители совершалась последняя литургия, в течение которой хор не пел, а рыдал: монахини и послушницы прощались с чудотворной иконой Умиления, прощались с родными святыми местами. Вскоре в соседнем селе Кимжа местные крестьяне сожгли иконостас XVII века, Ванька – сын сельского священника Симеона – попытался свалить дивеевские колокольни, сельские парни топорами рубили монастырские распятия, сам же отец Симеон был вынужден снять с себя сан и работать механиком на паровой мельнице, установленной в Тихвинском храме. На долгие годы замолкли церковные колокола, переплавленные на цветмет. Дивеевский монастырь, как сотни других по всей стране, стоял опустевший, разворованный. Какую-то часть святынь и церковной утвари монахиням удалось спасти, другую часть прихожане спрятали в своих домах, но многое исчезло бесследно. В Саровском монастыре разместилась колония для малолетних преступников. Однако всё ещё продолжали лететь наставления и призывы епископов не предавать православную церковь – уже теперь из-за тюремных стен, а не монастырских. И вернее всех остальных городов этому завету последовал Муром, ставший в 1930-е годы сосредоточением неофициальной церквной жизни и православного подполья.
Матушка Мария – игуменья Дивеевского монастыря – с большей частью приближённых монахинь и спасёнными святынями теперь ютились в этом древнем городе, зарабатывая себе на жизнь шитьём лоскутных одеял и вязанием. Храм Благовещенского монастыря, единственный впоследствии действующий храм в городе, превратился в подобие маленького Дивеевского подворья. Там правили службы по-дивеевски. Отчасти поэтому Татьяна и выбрала Муром местом своей ссылки. Туда же перебрались и обе тётки-монахини Арцыбушевы: Мария, писавшая иконы, устроилась художницей в краеведческий музей, Наталья, хорошо знавшая немецкий язык, пошла переводчицей на строившийся немцами завод. Она-то и приняла к себе заиндевевших, закутанных до бровей в женские пуховые платки Серафима, Алексея и их мать. Там и узнали, что бабушка тоже получила ссылку минус шесть, но выбрала другой город – Лукьянов, куда и поехала в полном одиночестве.
На следующий день по приезде в Муром Татьяна с детьми пошла на поклон к игуменье Марии. Там она долго молилась на икону Умиления и разговаривала с настоятельницей о положении церкви. Собеседницы разошлись во мнениях. Игуменья спросила:
— А в храм-то ходить собираетесь?
— Нет. Не хочу слышать как большевиков у алтаря поминают.
На следующий день по приезде в Муром Татьяна с детьми пошла на поклон к игуменье Марии. Там она долго молилась на икону Умиления и разговаривала с настоятельницей о положении церкви. Собеседницы разошлись во мнениях. Игуменья спросила:
— А в храм-то ходить собираетесь?
— Нет. Не хочу слышать как большевиков у алтаря поминают.
Этот ответ Татьяны разом прервал её отношения не только с матушкой Марией, но и с тёткой Наталией – нужно было немедленно искать новый угол. Однако найти пристанище зимой, да с двумя детьми, да с клеймом «членов семьи вредителя» оказалось нелегко. Целыми днями Татьяна ходила из дома в дом, из улицы в улицу, пока далеко от города, на самом краю Якимановской слободы у берега Оки не нашла избу, в которой жила одинокая старуха. Она пожалела мать с маленькими сыновьями и пустила к себе. Правда, мытарства не закончились – теперь нужно было искать работу, которой на самом деле хватало, но как только служители за конторкой узнавали о социальном положении Арцыбушевой – сразу указывали ей на дверь. Татьяна устроилась отгребать зерно в элеватор, а параллельно стала учиться в фельдшерской школе, открывшейся при горбольнице. Жили на гроши, отчаянно голодали. Лишь к осени удалось переехать из проеденной чёрным дымом старушечьей избы в комнату на Штабе – так называлась часть города, расположенная на дальней стороне глубокого оврага, поросшего лесом. Нашлись те, кто был готов протянуть руку помощи. В женской консультации заведующей работала сердобольная женщина, устроившая Татьяну дежурной в яслях и сестрой-раздатчицей при кухне для приготовления детского питания, а когда Арцыбушева закончила медкурсы – патронажной сестрой. По долгу службы, Татьяна стала регулярно посещать жителей Мурома, из-за чего круг знакомых активно ширился. В конце концов, благодаря новым связям она вместе со своей подругой Леночкой – такой же ссыльной – сняла отдельную квартиру на улице Лакина, дом 43. Постоянное место жительство позволило зажить по-новому, точнее, по-старому – вернуться к религиозной жизни. Татьяна решила организовать церковь прямо у себя дома, тайную.
В этом же доме поселилась, арендовав весь первый этаж, Татьяна Ростовцева – родная сестра жены Вячеслава Менжинского, наркома финансов РСФСР и преемника Феликса Дзержинского. У неё был пропуск в Кремль, и по дому сестры она была знакома со многими «рыцарями революции», в том числе и Генрихом Ягодой. Но при встрече Ростовцева не подавала ему руки.
— Они у вас все в крови, – как бы шутя, говорила она.
— Да что Вы, Татьяна Николаевна, – отшучивался, – разве это кровь? Она ж у них собачья, какая жалость может быть к врагам.
— Ну, положим, не все там у вас враги. Вот батюшку недавно посадили, какой же он враг?
— А! Вам снова хочется освободить очередного батюшку? Которого? Их у нас хоть пруд пруди!
— Андрея Яковлевича Эльбсона. Дайте ссылку, что вам стоит.
— Для Вас, голубушка, чего не сделаешь. Завтра ж сошлём!
— Они у вас все в крови, – как бы шутя, говорила она.
— Да что Вы, Татьяна Николаевна, – отшучивался, – разве это кровь? Она ж у них собачья, какая жалость может быть к врагам.
— Ну, положим, не все там у вас враги. Вот батюшку недавно посадили, какой же он враг?
— А! Вам снова хочется освободить очередного батюшку? Которого? Их у нас хоть пруд пруди!
— Андрея Яковлевича Эльбсона. Дайте ссылку, что вам стоит.
— Для Вас, голубушка, чего не сделаешь. Завтра ж сошлём!
Андрей Эльбсон
Так иеромонах Андрей Эльбсон оказался в ссылке в Муроме, поселился на Лакина, 43 и стал первым священником домашней церкви Татьяны Арцыбушевой. За священником из Москвы последовали его духовные дети и другие опальные священнослужители. И чтобы приезжие не спрашивали у прохожих дорогу к дому и этим не вызывали подозрений, на брёвнах мелом нарисовали метровые цифры «43»: перед самым забором начинался пустырь, так что надпись была видна издалека.
Дом на Лакина, 43 стал местом регулярных церковных сборов и пристанищем для всех, гонимых по религиозным соображениям. Недалеко от Арцыбушевых жил отец Сергий Сидоров - частый гость подпольной домашней церкви на улице Лакина. Жена его тесно дружила с Татьяной Арцыбушевой: они вместе оканчивали медицинскую школу, их дети были почти ровесники и учились в одной школе.
В Муроме становилось всё больше ссыльных – в основном из Москвы – так называемых «церковников». Шли массовые гонения на всю активно верующую интеллигенцию, поэтому сосланные батюшки или окончательно уходили в подполье, или служили в оставшихся церквях окрестных сёл. В самом городе можно было получить место только при Благовещенском соборе – единственном открытом, – но для этого требовалось получить официальное разрешение советских властей. В 1934 году опальный священник Павел Устинов получил такое разрешение, хоть и не сразу. Поначалу он отказался принимать Декларацию митрополита Сергия Страгородского и идти на компромиссы с правительством, за что его отстранили от службы. Не желая уходить от дел, Устинов вынужден был покаяться и перестать открыто конфликтовать с новым главой церкви. Официальное разрешение на службу можно было получить только так.
Дом на Лакина, 43 стал местом регулярных церковных сборов и пристанищем для всех, гонимых по религиозным соображениям. Недалеко от Арцыбушевых жил отец Сергий Сидоров - частый гость подпольной домашней церкви на улице Лакина. Жена его тесно дружила с Татьяной Арцыбушевой: они вместе оканчивали медицинскую школу, их дети были почти ровесники и учились в одной школе.
В Муроме становилось всё больше ссыльных – в основном из Москвы – так называемых «церковников». Шли массовые гонения на всю активно верующую интеллигенцию, поэтому сосланные батюшки или окончательно уходили в подполье, или служили в оставшихся церквях окрестных сёл. В самом городе можно было получить место только при Благовещенском соборе – единственном открытом, – но для этого требовалось получить официальное разрешение советских властей. В 1934 году опальный священник Павел Устинов получил такое разрешение, хоть и не сразу. Поначалу он отказался принимать Декларацию митрополита Сергия Страгородского и идти на компромиссы с правительством, за что его отстранили от службы. Не желая уходить от дел, Устинов вынужден был покаяться и перестать открыто конфликтовать с новым главой церкви. Официальное разрешение на службу можно было получить только так.
Троицкий монастырь в Муроме, 1934
В мае 1929 поменялась четвёртая статья Конституции РСФСР: больше нет «свободы религиозной и антирелигиозной пропаганды» – только «свобода религиозных исповеданий и антирелигиозной пропаганды». Однако у советского правительства не было ни последовательного плана действий, ни административного органа, который контролировал бы происходящие процессы и давал им объективную оценку. Поэтому была создана Постоянная комиссия для рассмотрения всех вопросов, связанных с деятельностью религиозных объединений. Её представителем стали бывший член Антирелигиозный комиссии при ЦК ВКП(б) Пётр Смидович, а секретарём – Евгений Тучков, начальник шестого отделения ОГПУ, инициатор уголовных преследований церковных иерархов.
По существу, комиссия должна была придать хоть какой-то организованный характер антирелигиозной политике, которая, особенно в удалении от Ленинграда и Москвы, стала проявлением банального самодурства местных властей. Постановления комиссии ограничивали полномочия ЦИКов АССР, краевых и областных исполкомов, стремясь сдержать беспредел «на местах». Например, запрещалось отнимать у верующих молитвенное здание, если оно было единственным в округе. Но местные власти часто предоставляли комиссии ложные сведения и всё равно распоряжались зданиями и церковными богатствами по своему усмотрению; назначали такие сельскохозяйственные, налоговые и прочие сборы, которые верующие никак не могли оплатить, и, в итоге, разваливали церковные общины. При этом отнятые здания либо заваливались зерном и отдавались под склад, либо просто разворовывались и приходили в запустение. Комиссия постоянно заявляла о недопустимости таких антирелигиозных мер и боролась с ними, но, учитывая масштабы происходящего, остановить насилие над Церковью уже было невозможно.
По существу, комиссия должна была придать хоть какой-то организованный характер антирелигиозной политике, которая, особенно в удалении от Ленинграда и Москвы, стала проявлением банального самодурства местных властей. Постановления комиссии ограничивали полномочия ЦИКов АССР, краевых и областных исполкомов, стремясь сдержать беспредел «на местах». Например, запрещалось отнимать у верующих молитвенное здание, если оно было единственным в округе. Но местные власти часто предоставляли комиссии ложные сведения и всё равно распоряжались зданиями и церковными богатствами по своему усмотрению; назначали такие сельскохозяйственные, налоговые и прочие сборы, которые верующие никак не могли оплатить, и, в итоге, разваливали церковные общины. При этом отнятые здания либо заваливались зерном и отдавались под склад, либо просто разворовывались и приходили в запустение. Комиссия постоянно заявляла о недопустимости таких антирелигиозных мер и боролась с ними, но, учитывая масштабы происходящего, остановить насилие над Церковью уже было невозможно.
Митинг в Муроме, 1932
В такое время создавать единую церковную общину было опасно: сотрудники НКВД могли заподозрить и обвинить в антисоветской деятельности всех разом. Нужно было рассредоточиться. Отбыв ссылку, отец Андрей Эльбсон уехал из Мурома, поселившись в Киржаче и окончательно уйдя в подполье; Леночка вернулась в Москву. Арцыбушевы остались коротать ссылку в передней половине дома на Лакина, 43, а в задней поселились дивеевские сестры, которые целыми днями стегали ватные одеяла для своего пропитания. Но и для Татьяны вскоре наступила амнистия: она написала всенародному старосте Михаилу Калинину письмо, в котором объяснила суть своего дела и напомнила один маленький эпизод из дореволюционной жизни старосты. Татьянин отец, будучи в 1916 году министром внутренних дел, получил телеграмму от некого Михаила Ивановича Калинина, сосланного «за что-то революционное», который жаловался на местные власти, не отпускающие его на похороны матери. Министр немедленно дал распоряжение: «Отпустить!». Теперь же Татьяна рассказала, что она дочь того самого сердечного человека, и попросила вникнуть в суть её сфальсифицированного дела. В ответ на письмо Калинин снял с Арцыбушевой все обвинения – она была свободна и могла ехать с детьми, куда пожелает.
Ивановская улица в Муроме, 1929
Однако Татьяна осталась в Муроме, так как переезжать в другой город попросту не было смысла. Здесь уже была квартира, обставленная купленной на собственные деньги мебелью, была работа медфельдшером в две смены и стабильный доход, Серафим учился в школе на одни пятёрки, Алексей перестал мотаться по улицам со шпаной, куря на чердаках, и работал в местном театре. На новом месте пришлось бы всё начинать сначала, заново проходить весь этот изнурительный путь. Тем более в последние два года чувствовалось смена политических настроений – стали ходить слухи о возможной легализации домашних церквей.
Этап II
Лишенец
Лишенец
Священник Павел Устинов познакомился со своей будущей женой Клавдией ещё в юности: ей было 14, ему – 18. Сразу понравились друг другу, стали много гулять вместе, переписываться. Чуть ли не каждый день после занятий во Владимирской семинарии он бегал встречать её к крыльцу городской женской гимназии. Родители девушки работали при Владимирском драмтеатре (отец – садовником, мать – «кем-то вроде завхоза»), поэтому детство их восьмерых детей прошло за кулисами. Там Клавдия подслушивала споры взрослых о литературе, много читала драматургию – в гимназии её часто ругали, думали, что за девочку сочинения пишет кто-то из старших; посещала вместе с подругой собрания на частной квартире – жандармский ротмистр вёл потом с ней долгий разговор о сборищах «неблагонадёжных». Павел тоже был не из знатной, но из гораздо более обеспеченной семьи: его отец выкупил во Владимире бакалейную лавку и со временем разбогател.
Через два года после их знакомства Павел поступил в Московскую духовную академию, которую окончил в 1914-м. Всё это время между парой велась переписка, достойная эпистолярного романа XVIII века: «Сердце у меня что-то заболело и заныло, Клавдюша, и я решил бросить на время кандидатское сочинение и побеседовать с тобой. Ах, родная моя! Сколько жизни влила ты в меня своим последним письмом! И главное, эта близость, это родное "ты", эта полнота и сила чувства… Ты, как солнышко, согреваешь меня!»; «До нашей любви им (людям) не добраться — оно наше! А что же сейчас творится в нашем "святая святых"? Сегодня в нём мрачно! Смотри, у жертвенника стоит человек и приносит на алтарь чувства свои. Смотри, его лицо грустно, и надо бы ждать от него покаянного вопля, но он сдерживает скорбь свою, он зажигает "светильники" во святая святых…».
Через два года после их знакомства Павел поступил в Московскую духовную академию, которую окончил в 1914-м. Всё это время между парой велась переписка, достойная эпистолярного романа XVIII века: «Сердце у меня что-то заболело и заныло, Клавдюша, и я решил бросить на время кандидатское сочинение и побеседовать с тобой. Ах, родная моя! Сколько жизни влила ты в меня своим последним письмом! И главное, эта близость, это родное "ты", эта полнота и сила чувства… Ты, как солнышко, согреваешь меня!»; «До нашей любви им (людям) не добраться — оно наше! А что же сейчас творится в нашем "святая святых"? Сегодня в нём мрачно! Смотри, у жертвенника стоит человек и приносит на алтарь чувства свои. Смотри, его лицо грустно, и надо бы ждать от него покаянного вопля, но он сдерживает скорбь свою, он зажигает "светильники" во святая святых…».
Павел Устинов
Клавдия Устинова
Когда Павел окончил Академию, молодые обвенчались, хотя «Клавдюша» испытывала некоторые сомнения: «От Павла получаю каждый день письма. Пишет о назначении женщины: "Женщина должна всегда сохранять свой юношеский идеализм, не должна опускаться в мелочи жизни, должна быть возвышенной и исполнять свой священный долг: быть матерью и женой". Какие мужчины эгоисты – женщина должна быть женой, то есть готовить обед мужу, стирать ему бельё, создавать ему уют, выращивать его детей и в то же время не опускаться в мелочи жизни и быть возвышенной. А работа среди народа, а служение ближнему, а самосовершенствование?!».
Отец Устинова был крайне недоволен этим браком с бедной девушкой «сомнительного» происхождения и писал сыну в ответ на его просьбу о благословении: «Я никак не согласен разрешить тебе жениться на твоей знакомой барышне, и от меня не жди родительского благословения и не считай меня своим отцом». Однако после горячих просьб и увещеваний сына был вынужден молча уступить.
Молодожёны уехали в Вятку, где Павел преподавал в Духовной семинарии священное писание и психологию до самого её закрытия в 1917 году. Вскоре после переезда у них родился первый ребёнок – Миша. Павлу постоянно приходилось выбирать между семьёй и церковной службой, о чём он признавался в дневнике: «У меня созревала великая мысль: быть пастырем церкви. Но вот случилось в моей жизни нечто неожиданное, о чём я никак не мог думать. Жена моя, верная спутница жизни моей, моя радость, моя любовь, когда-то горевшая сама желанием разделить со мной пастырский труд мой, вдруг изменяет своей идее. Её начинают пугать какие-то якобы назревающие политические события, её начинает беспокоить судьба не моя и не её самой, а судьба крошки Миши. И я обещал ей – во имя любви моей к ней – пока не идти в священники». Через год у него родился и второй сын – Серёжа. Но несмотря на это, Устинов в 1920 году всё-таки делает выбор в пользу церкви: принимает сан и уезжает служить в село Богослово Владимирской области. Клавдии пришлось вернуться с детьми во Владимир и поступить на службу в детский сад, так как в селе муж жил в маленькой крестьянской избе, а не в просторной квартире, предназначенной для священника – её отобрали для нужд военкомата.
Отец Устинова был крайне недоволен этим браком с бедной девушкой «сомнительного» происхождения и писал сыну в ответ на его просьбу о благословении: «Я никак не согласен разрешить тебе жениться на твоей знакомой барышне, и от меня не жди родительского благословения и не считай меня своим отцом». Однако после горячих просьб и увещеваний сына был вынужден молча уступить.
Молодожёны уехали в Вятку, где Павел преподавал в Духовной семинарии священное писание и психологию до самого её закрытия в 1917 году. Вскоре после переезда у них родился первый ребёнок – Миша. Павлу постоянно приходилось выбирать между семьёй и церковной службой, о чём он признавался в дневнике: «У меня созревала великая мысль: быть пастырем церкви. Но вот случилось в моей жизни нечто неожиданное, о чём я никак не мог думать. Жена моя, верная спутница жизни моей, моя радость, моя любовь, когда-то горевшая сама желанием разделить со мной пастырский труд мой, вдруг изменяет своей идее. Её начинают пугать какие-то якобы назревающие политические события, её начинает беспокоить судьба не моя и не её самой, а судьба крошки Миши. И я обещал ей – во имя любви моей к ней – пока не идти в священники». Через год у него родился и второй сын – Серёжа. Но несмотря на это, Устинов в 1920 году всё-таки делает выбор в пользу церкви: принимает сан и уезжает служить в село Богослово Владимирской области. Клавдии пришлось вернуться с детьми во Владимир и поступить на службу в детский сад, так как в селе муж жил в маленькой крестьянской избе, а не в просторной квартире, предназначенной для священника – её отобрали для нужд военкомата.
Владимир, 1930-е
Пока двадцатичетырёхлетняя Клавдия одна пыталась прокормить маленьких сыновей, отец Павел активно участвовал в дебатах с антирелигиозниками. В одну из суббот Устинов получил из волисполкома повестку, предлагающую ему явиться в богословскую школу на доклад товарища Еремеева «Есть ли бог» в роли оппонента. Когда священник вошёл в зал, огромный лохматый Еремеев размахивал ручищами и очень остроумно поносил «почтеннейшего бога». Его шутки, грубые и порой даже непристойные, находили живейший отклик у зала. Он сыпал острыми и злобными вопросами:
— Когда у Адама вынули ребро, почему он не отправился к праотцам?
— Человек сотворён из земли и в то же время по образу божьему. Что же, Бог – земляной?
— Есть арабы чёрные, как черти, есть жёлтые китайцы, есть белые люди. Что же, Бог – разноцветный?
— Почему почтеннейшего Ноя не сожрали звери в Ковчеге?
— Почему Бог рисуется стариком. Неужели он отживает свой век?
Однако сельский поп оказался тоже не промах – ответил на все каверзные вопросы, да ещё ссылаясь на европейских натуралистов, геологов и естествоведов, чем довёл товарища докладчика до откровенных грубостей. Тем не менее оппоненты расстались, пожав руки и договорившись продолжить диспут, когда оба будут свободны. Но они так и не смогли снова встретиться: сотрудники ГПУ не были настроены спорить с Устиновым и после небольшого допроса лишили его избирательного права, что отца Павла, однако, сильно не расстроило. Заботило его тогда совсем другое – он был назначен настоятелем владимирской Николо-Кремлёвской церкви («Никола-Город») и духовником окружного священства. Семья ненадолго воссоединилась, и в 1925 году родился третий ребёнок – Наташа. Появление дочери не заставило отца Павла стать осторожнее, что очень беспокоило его жену. Она тревожно писала в дневнике: «Нашу семью лишили права голоса, мы, что называется, лишенцы».
— Когда у Адама вынули ребро, почему он не отправился к праотцам?
— Человек сотворён из земли и в то же время по образу божьему. Что же, Бог – земляной?
— Есть арабы чёрные, как черти, есть жёлтые китайцы, есть белые люди. Что же, Бог – разноцветный?
— Почему почтеннейшего Ноя не сожрали звери в Ковчеге?
— Почему Бог рисуется стариком. Неужели он отживает свой век?
Однако сельский поп оказался тоже не промах – ответил на все каверзные вопросы, да ещё ссылаясь на европейских натуралистов, геологов и естествоведов, чем довёл товарища докладчика до откровенных грубостей. Тем не менее оппоненты расстались, пожав руки и договорившись продолжить диспут, когда оба будут свободны. Но они так и не смогли снова встретиться: сотрудники ГПУ не были настроены спорить с Устиновым и после небольшого допроса лишили его избирательного права, что отца Павла, однако, сильно не расстроило. Заботило его тогда совсем другое – он был назначен настоятелем владимирской Николо-Кремлёвской церкви («Никола-Город») и духовником окружного священства. Семья ненадолго воссоединилась, и в 1925 году родился третий ребёнок – Наташа. Появление дочери не заставило отца Павла стать осторожнее, что очень беспокоило его жену. Она тревожно писала в дневнике: «Нашу семью лишили права голоса, мы, что называется, лишенцы».
Опасения Клавдии оправдались: в 1931-м Павла снова арестовали и продержали пять месяцев в одиночной камере владимирского домзака, водя на допросы и не разрешая свиданий с родными. Жена отказывалась верить в серьёзность происходящего, не думала, что Устинова могут наказать за одну его церковную службу: «Я знаю Павла как очень честного человека, знаю и их, коммунистов, как людей идеи социализма. Они не мешали Павлу, он им и подавно, в чём же дело?».
«Видно, без скорбей не прожить нам жизни, – писал из тюрьмы жене Устинов. – Живу в чистой камере. Зимняя рама ещё не вставлена. Спасибо за валенки. Не покупай мне ничего – разве только хлеба и бутылку молока и больше ничего. Не скучай. Скоро увидимся».
Увиделись только мельком при отправке в Мариинский лагерь, куда этапировали священника: в ночь с 4 на 5 июня 1932 года сумрачные и подавленные арестанты сидели на конце перрона под надзором конвоя. Среди них Клавдия узнала фигуру Павла, окликнула. Он вздрогнул и обернулся – заметил её. Хотел подойти, но его остановили конвойные, стали загонять в вагон. Отец Павел успел вскинуть руку и издали благословить застывшую жену. От мужа ей осталась лишь куцая прощальная записка: «Ну, обещай ты мне, что ты не будешь унывать, что ты предашься всецело воле Божией. Ведь сейчас мы с тобой выпускной экзамен сдаём. Ну и сдавай на 5+. А на мою долю выпадет ещё экзамен на аттестат зрелости (я ведь постарше тебя – с меня больше и спрашивается). Я помолюсь за тебя, а ты – за меня. Ну, будешь ты у меня хорошей ученицей?».
«Видно, без скорбей не прожить нам жизни, – писал из тюрьмы жене Устинов. – Живу в чистой камере. Зимняя рама ещё не вставлена. Спасибо за валенки. Не покупай мне ничего – разве только хлеба и бутылку молока и больше ничего. Не скучай. Скоро увидимся».
Увиделись только мельком при отправке в Мариинский лагерь, куда этапировали священника: в ночь с 4 на 5 июня 1932 года сумрачные и подавленные арестанты сидели на конце перрона под надзором конвоя. Среди них Клавдия узнала фигуру Павла, окликнула. Он вздрогнул и обернулся – заметил её. Хотел подойти, но его остановили конвойные, стали загонять в вагон. Отец Павел успел вскинуть руку и издали благословить застывшую жену. От мужа ей осталась лишь куцая прощальная записка: «Ну, обещай ты мне, что ты не будешь унывать, что ты предашься всецело воле Божией. Ведь сейчас мы с тобой выпускной экзамен сдаём. Ну и сдавай на 5+. А на мою долю выпадет ещё экзамен на аттестат зрелости (я ведь постарше тебя – с меня больше и спрашивается). Я помолюсь за тебя, а ты – за меня. Ну, будешь ты у меня хорошей ученицей?».
Этап III
Бесы
Бесы
Весной 1933 года на большой дороге из села Карачарово в Муром была видна высокая плотная фигура, завёрнутая в не по размеру подобранное пальто, из-под полов которого торчал тёмный подрясник. Свежие заплаты прикрывали дыры на одеянии, из-за чего оно казалось будто пятнистым. Человек поднимал руку к вискам и поправлял длинные тёмно-каштановые волосы – волнистые локоны упрямились спрятаться под серой кепкой. Порой он останавливался, чтобы сбить с сапог грязь, засохшую твёрдой коркой. Дорога проходила через глинистые поля, испещрённые оврагами: летом их заливали жёлтые цветки гусиной травы, а ранней весной – тающий снег, который размывал глину и превращал путь в испытание.
Это шёл в Дмитровскую слободу на службу в храм Пресвятой Троицы отец Сергий Сидоров. Церковь ещё пока не была пустующей – она оставалась одной из немногих, действующих в окрестностях Мурома, и поэтому её посещали не только местные прихожане, но и многие верующие из соседних сёл. Часто и сам Сидоров объезжал окрестные деревни, где вдали от лишнего внимания мог во время службы не поминать ни Сергия Страгородского, ни советскую власть. Сельские жители помогали Сидорову: у них он часто оставался ночевать, принимал от них угощения для себя и своей семьи, был званым гостем на все крестьянские праздники. При этом сам тоже не оставался в долгу и старался откликнуться на любую просьбу.
Это шёл в Дмитровскую слободу на службу в храм Пресвятой Троицы отец Сергий Сидоров. Церковь ещё пока не была пустующей – она оставалась одной из немногих, действующих в окрестностях Мурома, и поэтому её посещали не только местные прихожане, но и многие верующие из соседних сёл. Часто и сам Сидоров объезжал окрестные деревни, где вдали от лишнего внимания мог во время службы не поминать ни Сергия Страгородского, ни советскую власть. Сельские жители помогали Сидорову: у них он часто оставался ночевать, принимал от них угощения для себя и своей семьи, был званым гостем на все крестьянские праздники. При этом сам тоже не оставался в долгу и старался откликнуться на любую просьбу.
Сергий Сидоров
Как-то осенней ночью он проснулся от стука в окно:
— Кто там?
— Батюшка, отцу плохо, поедемте, надо причастить! – ответил юношеский голос. – Кричит, бесы к нему подбираются!
Отец Сергий вскочил с печи, быстро оделся и, взяв Святые Дары, вышел к ждущей его телеге. Юноша отвёз священника в соседнюю деревню к дому, из которого доносились дикие вопли умирающего. У крыльца уже собралась целая толпа зевак. Сидоров растолкал их, перекрестился, вошёл внутрь. На кровати извивался мужчина и исступлённо размахивал руками, словно отгоняя кого-то.
— Спаси, батюшка! Бесы стращают, хватают меня! Спаси!!! – вскинул руки к отцу Сергию умирающий. Священник исповедовал и причастил его, а после – сел у изголовья кровати, усердно молясь. Больной затих:
— По углам разбежались, окаянные. Ко мне не подходят.
Сидоров так и провёл в крестьянском доме всю ночь, пока мужик спокойно не умер.
— Кто там?
— Батюшка, отцу плохо, поедемте, надо причастить! – ответил юношеский голос. – Кричит, бесы к нему подбираются!
Отец Сергий вскочил с печи, быстро оделся и, взяв Святые Дары, вышел к ждущей его телеге. Юноша отвёз священника в соседнюю деревню к дому, из которого доносились дикие вопли умирающего. У крыльца уже собралась целая толпа зевак. Сидоров растолкал их, перекрестился, вошёл внутрь. На кровати извивался мужчина и исступлённо размахивал руками, словно отгоняя кого-то.
— Спаси, батюшка! Бесы стращают, хватают меня! Спаси!!! – вскинул руки к отцу Сергию умирающий. Священник исповедовал и причастил его, а после – сел у изголовья кровати, усердно молясь. Больной затих:
— По углам разбежались, окаянные. Ко мне не подходят.
Сидоров так и провёл в крестьянском доме всю ночь, пока мужик спокойно не умер.
Ярмарка на Соборной площади в Муроме, 1929
Однако ни симпатии верующих, ни внушительное количество прихожан не спасали священника от бедности и налогового гнёта. Он был вынужден влезать в долги, просить помощи у родственников из Москвы, хотя и этого не хватало, чтобы прокормить большую семью. Участились ссоры с женой Татьяной. Однажды, во время очередной ругани с ней на кухне, страдающий нервной болезнью Сидоров начал громко кричать и топать ногами с такой силой, что под ним проломилась крышка погреба, и он упал в подпол избы под заливистый смех Татьяны. В письме от 16 сентября 1933 года он писал: «На службе моей всё более я нахожу утешения. Мучит постоянная материальная сторона – налоги, которые никак не могу уплатить. Последние остались 80 рублей, их надо достать к 1-му октября, и это тревожит и заставляет ум часто слишком останавливаться на суетности и тревогах жизни. На это я смотрю как на крест. На всё воля Божья».
Сидоров вёл регулярную переписку с родственниками, светскими друзьям и священнослужителям, разделявшими его критические взгляды на состояние Русской Церкви. После трёх лет, проведённых в лагерях Котласа, он не имел ни паспорта, ни права на въезд в крупные города, поэтому только так мог поддерживать связь с близкими и оставаться в курсе последних новостей. Но письма не избавляли отца Сергия от чувства одиночества, которое стало всё сильнее им овладевать. В конце концов, священник не выдержал ссылки и сорвался в Москву, прекрасно понимая, что этот поступок может обернуться для него новым арестом и стать губительными для всей семьи.
Сидоров вёл регулярную переписку с родственниками, светскими друзьям и священнослужителям, разделявшими его критические взгляды на состояние Русской Церкви. После трёх лет, проведённых в лагерях Котласа, он не имел ни паспорта, ни права на въезд в крупные города, поэтому только так мог поддерживать связь с близкими и оставаться в курсе последних новостей. Но письма не избавляли отца Сергия от чувства одиночества, которое стало всё сильнее им овладевать. В конце концов, священник не выдержал ссылки и сорвался в Москву, прекрасно понимая, что этот поступок может обернуться для него новым арестом и стать губительными для всей семьи.
Несмотря на риск, поездки стали регулярными: в столице Сидоров часто навещал сестру Ольгу и брата Алексея, проводил секретные богослужения прямо в квартирах. А в декабре 1935 года приехал в Москву вместе со старшей дочерью Верой, чтобы тайно обвенчать своего самого близкого друга юности, художника Николая Чернышёва и его вторую жену Елизавету Самарину. Опасная церемония совершалась при соблюдении строжайшей конспирации в доме Васнецовых, который тогда принадлежал родственникам невесты, а позже был отдан под музей художника Виктора Васнецова.
Сидоров, остерегаясь доносов соседей, ночевал не у родственников, а либо в Старо-Конюшенном переулке, на квартире у своего духовного сына, известного врача-гомеопата Сергея Грузинова, либо в Новодевичьем монастыре. В одну из таких ночей у Грузинова их увлечённую беседу прервал звонок в дверь. Открывать никто не спешил – в такой поздний час за дверью могли быть лишь сотрудники милиции, желающие проверить документы. И Сидорову, и Грузинову это сулило серьёзные проблемы. Но в дверь продолжали звонить. Хозяин квартиры обречённо пошёл открывать. В прихожей стоял всего лишь сосед с какими-то пустяками. Грузинов, словно побывавший на том свете, вернулся в комнату, но отца Сергия в ней уже не было: испугавшись ареста, священник вылез через окно на крышу соседнего дома и полз по ней, скрываясь от мнимого преследования.
Сидоров, остерегаясь доносов соседей, ночевал не у родственников, а либо в Старо-Конюшенном переулке, на квартире у своего духовного сына, известного врача-гомеопата Сергея Грузинова, либо в Новодевичьем монастыре. В одну из таких ночей у Грузинова их увлечённую беседу прервал звонок в дверь. Открывать никто не спешил – в такой поздний час за дверью могли быть лишь сотрудники милиции, желающие проверить документы. И Сидорову, и Грузинову это сулило серьёзные проблемы. Но в дверь продолжали звонить. Хозяин квартиры обречённо пошёл открывать. В прихожей стоял всего лишь сосед с какими-то пустяками. Грузинов, словно побывавший на том свете, вернулся в комнату, но отца Сергия в ней уже не было: испугавшись ареста, священник вылез через окно на крышу соседнего дома и полз по ней, скрываясь от мнимого преследования.
Склон у Космодемианской церкви в Муроме, 1920-е
Понимая, что посещать Москву без паспорта долго не получится, Сидоров через письма друзьям подал прошение в Красный крест, и его просьбу удовлетворили. Правда, наличие документов не гарантировало снижение рисков. Тогда любая сходка, инициированная не советским правительством, легко могла стать поводом для репрессий. А отец Сергий к этому моменту уже окончательно ушёл в церковное подполье и участвовал во многих секретная собраниях.
Старинного письма иконы, немеркнущий свет лампадок, дивеевские монахини с вязаньем в руках, уважаемые священники Михаил Шик и Андрей Эльбсон – тайная церковь в сером домике Арцыбушевых очень быстро приманила к себе и Сергия Сидорова. Его дети и Серафим с Алексеем ходили в одну школу, их матери – две Татьяны – учились вместе на медицинских курсах. Семьи сблизились, стали дружить, помогать друг другу. Отец Сергий регулярно совершал службы в потаённом храме на Лакина, 43. Часто ездил и в другие домашние церкви, которые изгнанные из монастырей устраивали в небольших городках и сёлах Московской и Владимирской областей.
Старинного письма иконы, немеркнущий свет лампадок, дивеевские монахини с вязаньем в руках, уважаемые священники Михаил Шик и Андрей Эльбсон – тайная церковь в сером домике Арцыбушевых очень быстро приманила к себе и Сергия Сидорова. Его дети и Серафим с Алексеем ходили в одну школу, их матери – две Татьяны – учились вместе на медицинских курсах. Семьи сблизились, стали дружить, помогать друг другу. Отец Сергий регулярно совершал службы в потаённом храме на Лакина, 43. Часто ездил и в другие домашние церкви, которые изгнанные из монастырей устраивали в небольших городках и сёлах Московской и Владимирской областей.
Храмы в Муроме начали закрывать с мая 1929 года, когда городской совет решил забрать пять церквей «под культурные и хозяйственные нужды». Даже не дождавшись согласования с ВЦИКом, совет приступил к исполнению замысла. Один из центральных храмов города – Сретения Господня – был отдан под склад Муромскому объединению льняных фабрик, с условием, что вся арендная плата за помещение пойдёт на культурное развитие города. Окружавшие храм маргаритки завалили мешками с волокном, по которым с радостью прыгала местная шпана. Потом здание переделали под оружейный склад, поставили часового, который непрестанно ходил вокруг здания. От цветущей лужайки осталась лишь вытоптанная земля.
В тот год ночь, накрывшая Русскую Церковь, стала ещё темнее: власть перестала скрыто контролировать церковь и перешла к открытым репрессиям последователей лояльной обновленческой церкви, приверженцев Страгородского и других митрополитов, не видя между ними разницы. Причиной тому послужила начавшаяся в стране коллективизация. Эту реформу, совпавшую с периодом неурожая и последующего голода, крестьяне встретили сопротивлением. За год в деревнях прошли 6,5 тысяч массовых выступлений, 800 из которых власти подавили, применив оружие. Последовали аресты, депортации и ссылки несогласных с новой политикой – сотни тысяч сгинут в исправительно-трудовых лагерях, но ещё больше крестьян не переживут голода и вспыхнувших эпидемий. Для перехода к новой системе ведения хозяйства русская деревня, по решению советского правительства, должна была кардинально измениться – расстаться со своими вековыми устоями, подчиниться государственной идеологии. Одним из таких устоев власти посчитали православную церковь. Было принято решение окончательно от неё избавиться.
В тот год ночь, накрывшая Русскую Церковь, стала ещё темнее: власть перестала скрыто контролировать церковь и перешла к открытым репрессиям последователей лояльной обновленческой церкви, приверженцев Страгородского и других митрополитов, не видя между ними разницы. Причиной тому послужила начавшаяся в стране коллективизация. Эту реформу, совпавшую с периодом неурожая и последующего голода, крестьяне встретили сопротивлением. За год в деревнях прошли 6,5 тысяч массовых выступлений, 800 из которых власти подавили, применив оружие. Последовали аресты, депортации и ссылки несогласных с новой политикой – сотни тысяч сгинут в исправительно-трудовых лагерях, но ещё больше крестьян не переживут голода и вспыхнувших эпидемий. Для перехода к новой системе ведения хозяйства русская деревня, по решению советского правительства, должна была кардинально измениться – расстаться со своими вековыми устоями, подчиниться государственной идеологии. Одним из таких устоев власти посчитали православную церковь. Было принято решение окончательно от неё избавиться.
Изъятие церковных ценностей, 1930-е
Избавлялись радикально и повсеместно. В Муроме по радио, в газетах «Приокская правда» и «Муромский рабочий» объявили о беспроигрышной лотерее: для участия нужно было всего лишь собраться в назначенный день и час с ломами, мотыгами, кирками, лопатами у памятника Ленину на центральной площади города. В ночь перед этим сбором весь Муром разбудили мощные взрывы, сотрясшие оконные стёкла. Наутро от части городских храмов остались одни развалины: горы белых камней и груды битого кирпича. Их-то и требовалось разобрать и погрузить на телеги участникам беспроигрышной лотереи, чтобы получить билетик с призом. Народ, перекрестившись, взялся разбирать, разгребать, сгружать на телеги и отвозить на различные стройки остатки церквей. Работе способствовало пение «Интернационала» под аккомпанемент духового оркестра. Вечером уставшие рабочие уходили домой, сжимая в руках награду: кто – курицу, кто – петуха, кто – молодого поросёнка.
В конце концов, очередь дошла и до церкви отца Сергия в Дмитровской слободе. Её закрыли, и весной 1936-го Сидоров переехал на новое место службы в село Климово в пятидесяти километрах от Мурома. Там священник получил место при белокаменном храме Успения Пресвятой Богородицы, стоящей на холме и отделенной от села кладбищем. Саму церковь окружала полуразрушенная кирпичная стена, прорехи в которой закрывали пышные кусты сирени. Ночевал священник прямо у храма, в почерневшей от времени, покосившейся сторожке. Материальное положение прихода было ещё хуже, чем на прошлом месте службы отца Сергия. Помогал священнику один хромоногий, вечно угрюмый причетник Яков Порфирьевич – большой любитель выпить. Хор был собран из местных деревенских женщин, на которых же ложилась часть хозяйственных забот: они убирали помещение и территорию церкви. Трудились кто как, но ужасно обижались на священника, что благодарил он всех одинаково, независимо от проделанной работы.
На лето к Сидорову приехала его семья. Ненадолго воцарилась идиллия: отец Сергий с Татьяной, взявшись за руки, гуляли вдоль реки. Впереди них бегали дети и пробовали танцевать под доносившиеся из села звуки гармоники, перемешанные с пением перепёлок. Вдали от Мурома, умиротворённый сельскими пейзажами и близостью родных людей, священник забывает церковное подполье и меньше пишет своим соратникам. Но лишь до зимы.
В феврале 1937 года церковь Успения Пресвятой Богородицы тоже оказалась закрыта и Сидоров потерял последнее место службы. Священник ходил по окрестным деревням, но пожертвований верующих всё равно не хватало для выживания. Проводить службы вне церкви не получалось, а как писал сам Сидоров: «Священник не может жить и не совершать литургию». Возобновились поездки в Малоярославец в дом Михаила Шика, где была небольшая пристройка: для непосвящённых – обычный кабинет, в котором хозяин работал над переводами, но для круга верующих – подпольная домовая церковь.
В конце концов, очередь дошла и до церкви отца Сергия в Дмитровской слободе. Её закрыли, и весной 1936-го Сидоров переехал на новое место службы в село Климово в пятидесяти километрах от Мурома. Там священник получил место при белокаменном храме Успения Пресвятой Богородицы, стоящей на холме и отделенной от села кладбищем. Саму церковь окружала полуразрушенная кирпичная стена, прорехи в которой закрывали пышные кусты сирени. Ночевал священник прямо у храма, в почерневшей от времени, покосившейся сторожке. Материальное положение прихода было ещё хуже, чем на прошлом месте службы отца Сергия. Помогал священнику один хромоногий, вечно угрюмый причетник Яков Порфирьевич – большой любитель выпить. Хор был собран из местных деревенских женщин, на которых же ложилась часть хозяйственных забот: они убирали помещение и территорию церкви. Трудились кто как, но ужасно обижались на священника, что благодарил он всех одинаково, независимо от проделанной работы.
На лето к Сидорову приехала его семья. Ненадолго воцарилась идиллия: отец Сергий с Татьяной, взявшись за руки, гуляли вдоль реки. Впереди них бегали дети и пробовали танцевать под доносившиеся из села звуки гармоники, перемешанные с пением перепёлок. Вдали от Мурома, умиротворённый сельскими пейзажами и близостью родных людей, священник забывает церковное подполье и меньше пишет своим соратникам. Но лишь до зимы.
В феврале 1937 года церковь Успения Пресвятой Богородицы тоже оказалась закрыта и Сидоров потерял последнее место службы. Священник ходил по окрестным деревням, но пожертвований верующих всё равно не хватало для выживания. Проводить службы вне церкви не получалось, а как писал сам Сидоров: «Священник не может жить и не совершать литургию». Возобновились поездки в Малоярославец в дом Михаила Шика, где была небольшая пристройка: для непосвящённых – обычный кабинет, в котором хозяин работал над переводами, но для круга верующих – подпольная домовая церковь.
Дом Михаила Шика в Малоярославце
Отец Михаил Шик переехал в Малоярославец несколько лет назад из села Томилино близ Москвы, где также, прямо в квартире, проводил тайные богослужения. Туда к нему приходили Татьяна, дочь философа Василия Розанова, пианистка Мария Юдина и даже Екатерина, дочь Вячеслава Менжинского. Шик предчувствовал, что рано или поздно на него донесут в ОГПУ, поэтому скрылся от лишнего внимания в Малоярославце. Действительно: вскоре на его подмосковный адрес «пришли». Искали отца Михаила, спрашивали о нём соседей, но те отвечали: «Уехал в какой-то город, кажется, на букву "М". Может, в Можайск?». Многие из духовных чад священника последовали за ним в Малоярославец, и там за шесть лет вокруг Шика собралась целая группа единомышленников – тоже подпольщиков. Среди них был и Сергий Сидоров. Тайные службы проходили в аскезе, свечи экономили для освещения дома, многих надлежащих атрибутов не хватало, а что-то даже уничтожали сами – при обыске сотрудниками ОГПУ это могло стать опасным вещдоком и стоить владельцу жизни.
Но самое необходимое собирали по крупицам – радовались мелочам. Во время очередной поездки Сидорова в Москву друзья подарили ему чудом уцелевшее, почти новое церковное одеяние. Увидев среди подарков епитрахиль и даже подризник, отец Сергий радостно воскликнул:
— Благодарю Тебя, Господи! Значит, меня похоронят как священника!
Но самое необходимое собирали по крупицам – радовались мелочам. Во время очередной поездки Сидорова в Москву друзья подарили ему чудом уцелевшее, почти новое церковное одеяние. Увидев среди подарков епитрахиль и даже подризник, отец Сергий радостно воскликнул:
— Благодарю Тебя, Господи! Значит, меня похоронят как священника!
Этап IV
Колодники
Колодники
После освобождения из лагеря, в 1933-м, отец Сергий не мог жить ближе 300 километров от Москвы. Он выбрал Муром, потому что там ему обещали место священника. Правда, не в самом городе, а рядом, через овраг, в Дмитровской слободе. За ним последовала и его семья. Татьяна с тремя детьми поселилась в маленьком домике в старинном селе Карачарово, расположенном в трёх километрах от Мурома, а Сергий – на противоположной окраине, у церкви Дмитровской слободы в комнатушке, в которой были лишь письменный стол, широкая лавка вместо кровати и несколько взирающих на это скромное убранство икон. Младшую дочь Таню ещё до отъезда в Карачарово отправили из-за слабого здоровья в детский санаторий под Москвой – в «детскую колонию» как тогда называли; там она окрепла, однако следующей зимой в Карачарово девочке снова стало плохо и её отвезли в столицу к Ольге, сестре Сидорова. Таня стала воспитываться у тёти, приезжая в Муром лишь на каникулы.
Покинув Москву, отец Сергий, его жена, их старшая дочь и два сына сошли на платформу железнодорожного вокзала Мурома и направились в Карачарово. Идти было пять километров и, чтобы сократить дорогу, Сидоров повёл семью по рельсам. Вскоре их окрикнул милиционер, остановил: ходить по путям было запрещено. Родители сразу послушались и, не прекословя, отошли в сторону. Но Вера, старшая дочь, увидев недовольного сотрудника в форме, подумала, что главу семьи опять собираются арестовать. Она заплакала, схватилась за ноги отца и закричала:
— Папа ни в чём не виноват! Он ничего плохого не сделал! Я его больше не отдам!
Покинув Москву, отец Сергий, его жена, их старшая дочь и два сына сошли на платформу железнодорожного вокзала Мурома и направились в Карачарово. Идти было пять километров и, чтобы сократить дорогу, Сидоров повёл семью по рельсам. Вскоре их окрикнул милиционер, остановил: ходить по путям было запрещено. Родители сразу послушались и, не прекословя, отошли в сторону. Но Вера, старшая дочь, увидев недовольного сотрудника в форме, подумала, что главу семьи опять собираются арестовать. Она заплакала, схватилась за ноги отца и закричала:
— Папа ни в чём не виноват! Он ничего плохого не сделал! Я его больше не отдам!
Милиционер сконфузился, не понимая реакции ребёнка, но не стал ничего отвечать. Мать подхватила девочку, и вся семья растерянно пошла прочь. На этот раз никого не арестовали, но семья Сидорова ещё много лет не знала покоя из-за службы отца. Переезжали из комнаты в комнату, меняли дома и квартиры, неизменным оставалось одно – всегда в сундуке между детскими штопаными вещами лежал заготовленный заранее свёрток с чистой рубашкой, носками, ложкой, эмалированной кружкой и сухарями. Даже детские игры носили на себе метку лагерного прошлого их отца: они бегали в «кандалах» – вешали на себя ухват, кочергу, любые подручные железки и ходили по комнате друг за другом гуськом, звеня всеми своими «оковами» и распевая арестантские песни, которым их научил отец Сергий.
— Спускается солнце за степи, вдали золотится ковыль... – заводил старший сын Бориска.
— Колодников звонкие цепи взметают дорожную пыль, – подхватывали остальные.
— Эх, Борюнок мой, Борюнок! – умильно приговаривал Сергий и прижимал к себе сына. Мать же с ужасом смотрела на такие игры детей.
— Спускается солнце за степи, вдали золотится ковыль... – заводил старший сын Бориска.
— Колодников звонкие цепи взметают дорожную пыль, – подхватывали остальные.
— Эх, Борюнок мой, Борюнок! – умильно приговаривал Сергий и прижимал к себе сына. Мать же с ужасом смотрела на такие игры детей.
Татьяна Кандиба
Татьяна, происходившая из известного украинского дворянского рода Кандиба и имевшая прекрасное воспитание, досадовала, что её муж был очень непрактичен и беспомощен в житейских делах, мало что умел делать по хозяйству, денег, фактически, не зарабатывал, семье практически не помогал. Всё приходилось делать самой: рубить дрова, топить печь, носить воду, ремонтировать что-то по дому, готовить, стирать, убирать, возиться с детьми. А затем ещё идти через глубокий тёмный овраг на ночную смену на фанерном заводе и там, в жарком и шумном цеху, таскать листы фанеры, подсовывать их под пресс. Как-то ночью её руку затянуло в станок и раздавило – два месяца пришлось ходить в больницу, но указательный палец так и остался изуродован. Когда не было возможности работать Татьяна просила милостыню у соседей, благо можно было обойтись мешком картошки, чтобы прокормить хотя бы детей – Сидорову помогали прихожане в Дмитровской слободе, звали к себе в гости и кормили блинами.
Отец Сергий тоже искал работу на муромской бирже труда, но не находил подходящего для себя места. Пробовал заниматься литературным трудом, но в итоге писал только дневники, историю рода своих предков по матери или многочисленные письма друзьям. Михаилу Шику он рассказывал: «Жена пока на службе, но ждёт ежедневно сокращения, чрезвычайно изнервничалась. Берёт сверхурочные работы, которые весьма мало оплачиваются. Её вид и состояние чрезвычайно меня тревожат. Дети вполне благополучны. Посещают площадку, здоровы и веселы».
Отец Сергий тоже искал работу на муромской бирже труда, но не находил подходящего для себя места. Пробовал заниматься литературным трудом, но в итоге писал только дневники, историю рода своих предков по матери или многочисленные письма друзьям. Михаилу Шику он рассказывал: «Жена пока на службе, но ждёт ежедневно сокращения, чрезвычайно изнервничалась. Берёт сверхурочные работы, которые весьма мало оплачиваются. Её вид и состояние чрезвычайно меня тревожат. Дети вполне благополучны. Посещают площадку, здоровы и веселы».
С детьми приходилось не легче. Летом матери удалось устроить младшего сына Алёшу и дочку Веру в детский сад, однако вскоре Татьяну заставили их забрать из-за христианских взглядов. Оставлять дома ребят было не с кем, и поэтому осенью они пошли в школу к старшему Борису, который уже учился в третьем классе. Иногда семью в Карачарове навещал отец, но в эти дни к нему приходил его старый друг Фёдор Челищев, живший по соседству, и дети слушали их философские и духовные беседы, которые взрослые вели, сидя на лежащих перед домом брёвнах.
Условия жизни улучшились летом 1935-го. Отец Сергий познакомился с верующей старушкой Анной Григорьевной, которая согласилась сдать ему большую комнату и кухню в своём двухэтажном деревянном доме с собственным садом в самом центре города. Комнату Татьяна со смехом называла «логовом»: вдоль одной стены стояла большая деревянная лавка, на которой спал Борис, кровать Алексея, а напротив – постель Веры. У окна стояли стол и сундук, одежда висела на гвоздях у двери. Родители спали на полу, подстелив ветхие одеяла. Были ещё три стула, ящик из-под посылок, где дети хранили свои книги и игрушки, старые ходики на стене, да в красном углу икона Иверской Божией Матери, с которой отец Сергий не расставался с детства. Замка на входной двери не было – она закрывалась только изнутри на тоненький крючок. Однажды Татьяна, вернувшись домой, застала вора, который стоял очень смущённый бедной обстановкой комнаты и особенно – состоянием обоев: домашняя крольчиха Дымка драла их снизу, и поэтому неровные полосы доходили до середины стен. Домушник растерялся и, заметив хозяйку, лишь подбодрил её, сказал, что всё наладится, после чего просто ушёл.
Условия жизни улучшились летом 1935-го. Отец Сергий познакомился с верующей старушкой Анной Григорьевной, которая согласилась сдать ему большую комнату и кухню в своём двухэтажном деревянном доме с собственным садом в самом центре города. Комнату Татьяна со смехом называла «логовом»: вдоль одной стены стояла большая деревянная лавка, на которой спал Борис, кровать Алексея, а напротив – постель Веры. У окна стояли стол и сундук, одежда висела на гвоздях у двери. Родители спали на полу, подстелив ветхие одеяла. Были ещё три стула, ящик из-под посылок, где дети хранили свои книги и игрушки, старые ходики на стене, да в красном углу икона Иверской Божией Матери, с которой отец Сергий не расставался с детства. Замка на входной двери не было – она закрывалась только изнутри на тоненький крючок. Однажды Татьяна, вернувшись домой, застала вора, который стоял очень смущённый бедной обстановкой комнаты и особенно – состоянием обоев: домашняя крольчиха Дымка драла их снизу, и поэтому неровные полосы доходили до середины стен. Домушник растерялся и, заметив хозяйку, лишь подбодрил её, сказал, что всё наладится, после чего просто ушёл.
Советская улица в Муроме, 1936
А брать ему действительно было нечего – самой дорогой вещью в семье были отцовские сапоги сорок пятого размера с очень высоким подъёмом, которые просто купить было нельзя – приходилось шить на заказ. Только такие мог носить отец Сергий, страдающий варикозным расширением вен сильной степени и трофическими язвами на ногах, которые всё время кровоточили и гноились. Татьяна с усилием стаскивала с опухших ног мужа сапоги, ставила ему тазик с горячей водой и меняла грязные повязки, пока он стонал от боли. Бинтов не было, приходилось рвать на длинные лоскуты старые простыни, которые быстро присыхали к язвам. В книге об отце Вера вспоминала этот эпизод:
— Серёжа, потерпи, ну потерпи ещё, – успокаивала мужа Татьяна.
— Оставь, мне больно! – отмахивался отец Сергий.
По словам дочери, в такие моменты в Сидорове «просыпалось что-то детское, и он кричал до слёз, зная, что возле него любящий и сильный человек, который может так хорошо пожалеть». Ухудшало здоровье священника и служба – приходилось отстаивать долгие часы, что не шло на пользу ногам. Но оставить своё дело отец Сергий не мог, несмотря на опасения жены, которые были связаны не только с самочувствием мужа, но и его безопасностью: в Муроме участились доносы и усилилась слежка за нелегальными собраниями. Татьяна просила мужа немного переждать, придержать коней или хотя бы подумать о детях. На что он отвечал:
— Бояться не стыдно, все мы люди слабые, а вот малодушествовать нельзя. Бог-то ведь с нами и нигде Он нас не оставит!
— А что будет с детьми? На кого их оставишь?
— На Царицу Небесную! Если я погибну, то за Её Сына. Так неужели можно допустить мысль, что в таком случае Она оставит моих детей? Никогда! Спасёт и защитит!
— Серёжа, потерпи, ну потерпи ещё, – успокаивала мужа Татьяна.
— Оставь, мне больно! – отмахивался отец Сергий.
По словам дочери, в такие моменты в Сидорове «просыпалось что-то детское, и он кричал до слёз, зная, что возле него любящий и сильный человек, который может так хорошо пожалеть». Ухудшало здоровье священника и служба – приходилось отстаивать долгие часы, что не шло на пользу ногам. Но оставить своё дело отец Сергий не мог, несмотря на опасения жены, которые были связаны не только с самочувствием мужа, но и его безопасностью: в Муроме участились доносы и усилилась слежка за нелегальными собраниями. Татьяна просила мужа немного переждать, придержать коней или хотя бы подумать о детях. На что он отвечал:
— Бояться не стыдно, все мы люди слабые, а вот малодушествовать нельзя. Бог-то ведь с нами и нигде Он нас не оставит!
— А что будет с детьми? На кого их оставишь?
— На Царицу Небесную! Если я погибну, то за Её Сына. Так неужели можно допустить мысль, что в таком случае Она оставит моих детей? Никогда! Спасёт и защитит!
Этап V
Ждущая
Ждущая
«Так говоришь, "не люблю тебя" и не забочусь о тебе? Эх, ты! Бить-то тебя некому! Разве на врача можно обижаться, что у него много пациентов? Подумай! Крепко целую тебя и Натулю», – прочла Клавдия Устинова в письме мужа от 8 октября 1936 года. А бить-то её действительно было некому: семья жила по разным городам.
Когда Павел Устинов в мае 1934 года вернулся из лагерной ссылки, ему отказали в прописке во Владимире. Он выбрал Муром – по слухам, там было сосредоточение религиозной жизни советской России – и стал служить протоиереем в Благовещенском соборе (в том самом, который Татьяна Арцыбушева категорически отказалась посещать). Клавдия с детьми в это время жила в Москве, но ей пришлось переехать во Владимир. После возвращения Устинова из Сибири её несколько раз вызывали в московское отделение милиции, расспрашивали о муже, а в итоге – отобрали столичный паспорт. Чтобы его вернуть требовалось развестись с «антисоветским элементом», но вместо этого Клавдия с тринадцатилетней дочкой уехали в провинцию. Сыновья же остались работать в Москве. Съехаться возможности не было, да и боялись: если бы Устинова вновь арестовали, то жена с детьми отправились бы следом – ссылали теперь целыми семьями.
Когда Павел Устинов в мае 1934 года вернулся из лагерной ссылки, ему отказали в прописке во Владимире. Он выбрал Муром – по слухам, там было сосредоточение религиозной жизни советской России – и стал служить протоиереем в Благовещенском соборе (в том самом, который Татьяна Арцыбушева категорически отказалась посещать). Клавдия с детьми в это время жила в Москве, но ей пришлось переехать во Владимир. После возвращения Устинова из Сибири её несколько раз вызывали в московское отделение милиции, расспрашивали о муже, а в итоге – отобрали столичный паспорт. Чтобы его вернуть требовалось развестись с «антисоветским элементом», но вместо этого Клавдия с тринадцатилетней дочкой уехали в провинцию. Сыновья же остались работать в Москве. Съехаться возможности не было, да и боялись: если бы Устинова вновь арестовали, то жена с детьми отправились бы следом – ссылали теперь целыми семьями.
Виделись редко, но и во время этих коротких визитов Устинову было не до родных. Во Владимир он приезжал к своим духовным чадам, а к семье приходил ближе к ночи и сразу ложился спать. Клавдии оставалось только сидеть у кровати мужа, смотреть на него, расчёсывать его спутанные волосы и плакать, но он не просыпался. Общаться с семьёй ему было некогда. В 1937-м в Москве за «антисоветскую агитацию» арестовали сына Сергея и осудили на шесть лет исправительно-трудовых лагерей в Карелии, но даже об этом семья узнала не сразу. Обсудить случившееся Клавдии было не с кем, оставалось только писать в дневнике: «Был арестован Серёжа, а за что – я не знаю. Скоро будет два месяца, а он всё сидит». Сергея уже этапировали в лагерь, но семья продолжала думать, что он находится в тюрьме.
Утешение Клавдия пыталась найти у мужа и ради этого поехала к нему в Муром, хотя бы на два дня. «А потом встреча, разговоры, радость и бесконечная любовь!.. Как счастлива я была с ним эти дни, сколько любви и ласки, как он хорош, нежен, как я люблю его! – вспоминала этот краткий миг счастья Клавдия. – 17-го ноября вечером он провожал меня на станцию. Мы попрощались, и он поспешил (в церковь), хотя поезда ещё и не было. Тяжёлое предчувствие сжало мне сердце, и я подумала: "Арестуют. Я его долго не увижу"».
Утешение Клавдия пыталась найти у мужа и ради этого поехала к нему в Муром, хотя бы на два дня. «А потом встреча, разговоры, радость и бесконечная любовь!.. Как счастлива я была с ним эти дни, сколько любви и ласки, как он хорош, нежен, как я люблю его! – вспоминала этот краткий миг счастья Клавдия. – 17-го ноября вечером он провожал меня на станцию. Мы попрощались, и он поспешил (в церковь), хотя поезда ещё и не было. Тяжёлое предчувствие сжало мне сердце, и я подумала: "Арестуют. Я его долго не увижу"».
Виделись редко, но и во время этих коротких визитов Устинову было не до родных. Во Владимир он приезжал к своим духовным чадам, а к семье приходил ближе к ночи и сразу ложился спать. Клавдии оставалось только сидеть у кровати мужа, смотреть на него, расчёсывать его спутанные волосы и плакать, но он не просыпался. Общаться с семьёй ему было некогда. В 1937-м в Москве за «антисоветскую агитацию» арестовали сына Сергея и осудили на шесть лет исправительно-трудовых лагерей в Карелии, но даже об этом семья узнала не сразу. Обсудить случившееся Клавдии было не с кем, оставалось только писать в дневнике: «Был арестован Серёжа, а за что – я не знаю. Скоро будет два месяца, а он всё сидит». Сергея уже этапировали в лагерь, но семья продолжала думать, что он находится в тюрьме.
Утешение Клавдия пыталась найти у мужа и ради этого поехала к нему в Муром, хотя бы на два дня. «А потом встреча, разговоры, радость и бесконечная любовь!.. Как счастлива я была с ним эти дни, сколько любви и ласки, как он хорош, нежен, как я люблю его! – вспоминала этот краткий миг счастья Клавдия. – 17-го ноября вечером он провожал меня на станцию. Мы попрощались, и он поспешил (в церковь), хотя поезда ещё и не было. Тяжёлое предчувствие сжало мне сердце, и я подумала: "Арестуют. Я его долго не увижу"».
Утешение Клавдия пыталась найти у мужа и ради этого поехала к нему в Муром, хотя бы на два дня. «А потом встреча, разговоры, радость и бесконечная любовь!.. Как счастлива я была с ним эти дни, сколько любви и ласки, как он хорош, нежен, как я люблю его! – вспоминала этот краткий миг счастья Клавдия. – 17-го ноября вечером он провожал меня на станцию. Мы попрощались, и он поспешил (в церковь), хотя поезда ещё и не было. Тяжёлое предчувствие сжало мне сердце, и я подумала: "Арестуют. Я его долго не увижу"».
В итоге Устинова обвинили в «руководстве Муромским филиалом к/р церковной диверсионно-террористической организации» и приговорили к «высшей мере наказания».
26 декабря в 15:00 приговор был приведён в исполнение. Вместе с Павлом Устиновым расстреляли ещё 13 «подельников». Их тела зарыли на Бугровском кладбище города Горький (Нижний Новгород). А семьям ничего не сообщили. Вообще ничего: ни приговор, ни его исполнение, ни место захоронения. Ничего не знающая Клавдия продолжала видеть мужа во снах, молиться за него: «17.10.1952. Сегодня исполнилось 15 лет, как взяли Павла. Может быть, он жив, может быть, его сегодня освободили, и я его скоро увижу?! Об этом даже страшно подумать. Этому страшно верить, но так хочется, чтобы это случилось! Я всю жизнь очень одинока, я всю жизнь не имела своего гнезда и всё чего-то ждала. Может быть, на закате жизни судьба улыбнётся мне? Я очень, очень жду и ждать не перестану до самой смерти».
26 декабря в 15:00 приговор был приведён в исполнение. Вместе с Павлом Устиновым расстреляли ещё 13 «подельников». Их тела зарыли на Бугровском кладбище города Горький (Нижний Новгород). А семьям ничего не сообщили. Вообще ничего: ни приговор, ни его исполнение, ни место захоронения. Ничего не знающая Клавдия продолжала видеть мужа во снах, молиться за него: «17.10.1952. Сегодня исполнилось 15 лет, как взяли Павла. Может быть, он жив, может быть, его сегодня освободили, и я его скоро увижу?! Об этом даже страшно подумать. Этому страшно верить, но так хочется, чтобы это случилось! Я всю жизнь очень одинока, я всю жизнь не имела своего гнезда и всё чего-то ждала. Может быть, на закате жизни судьба улыбнётся мне? Я очень, очень жду и ждать не перестану до самой смерти».
Этап VI
Мясо
Мясо
Как-то поздней ночью Сергий Сидоров возвращался домой по просёлочной дороге. Вдруг один из кустарников на обочине зашевелился, и из листьев выпрыгнула большая чёрная собака, перегородив путь. В лунном свете отец Сергий увидел вместо пёсьей морды человеческое лицо. Из-под косматых бровей на него смотрели смеющиеся глаза. Священник осенил нечисть крестным знамением, и она отступила, но до самого города шла позади него. Возможно, это была просто одна из баек повидавшего многое Сидорова, но, так или иначе, пёс с человеческим лицом всё-таки догнал его 13 апреля 1937 года.
Был выходной солнечный день. Время близилось к обеду: Татьяна накрывала на стол, за которым уже собрались дети и выманивали на капусту Дымку из-за сундука. Отец Сергий вышел в сени за хлебом, который висел там в холщовом мешке. В дверях он столкнулся с плотным мужичком в милицейской форме. «Таня, за мной пришли», – услышала тихий голос Сидорова его жена. Никто из присутствующих не говорил ничего лишнего: не было ни слёз, ни обнадёживающих слов, ни приказов. Татьяна достала из сундука уже давно заготовленный узелок, протянула его мужу. Отец Сергий обнял старшего сына, поцеловал младших детей, перекрестил их. Собирался проститься с Татьяной, но вмешался милиционер: «Жена может проводить». Дверь за родителями закрылась, и дети сели за стол одни.
Был выходной солнечный день. Время близилось к обеду: Татьяна накрывала на стол, за которым уже собрались дети и выманивали на капусту Дымку из-за сундука. Отец Сергий вышел в сени за хлебом, который висел там в холщовом мешке. В дверях он столкнулся с плотным мужичком в милицейской форме. «Таня, за мной пришли», – услышала тихий голос Сидорова его жена. Никто из присутствующих не говорил ничего лишнего: не было ни слёз, ни обнадёживающих слов, ни приказов. Татьяна достала из сундука уже давно заготовленный узелок, протянула его мужу. Отец Сергий обнял старшего сына, поцеловал младших детей, перекрестил их. Собирался проститься с Татьяной, но вмешался милиционер: «Жена может проводить». Дверь за родителями закрылась, и дети сели за стол одни.
Митинг в Муроме, 1937
Татьяна с отцом Сергием пошли вдвоём к зданию НКВД. Не было ни обыска, ни наручников, ни конвоя: следовал милиционер несколько на отдалении от шедшей под руку семейной пары. Они двинулись по центральной улице Мурома, вымощенной плиткой, ступали по камням, вытащенным из обломков городских храмов. По дороге встречались знакомые Сидорова – они, ни о чём не догадываясь, весело здоровались с ним. Отец Сергий кивал в ответ. Никто не знал, что у здания НКВД священник навсегда простится со своей женой. Когда на следующий день Татьяна пришла с передачей, ей сказали, что Сергея Сидорова ещё ночью отправили в Москву. Его сразу доставили в Бутырскую тюрьму, обрили и посадили в камеру. Из личных вещей в протоколе обыска числились лишь православный крест, пояс от толстовки и 15 копеек.
Ещё раньше в Бутырку из Малоярославца доставили отца Михаила Шика. В феврале у него в доме прошёл обыск. Трое одетых в штатское сотрудников ОГПУ пришли во время обеда, объявили, что у них имеется ордер «на обыск». Но Шик прочёл в документе: «на обыск и арест». Сотрудники не зверствовали, вели себя сдержанно. Осмотрели книги, не нашли ничего запрещённого и уже собирались уходить. На выходе попросили священника показать им паспорт. Документы хранились в пристройке, которую трое в штатском до этого не заметили и не осмотрели. Потайную комнату Шик выдал сам. Обыск начался заново. В пристроенном кабинете быстро нашли церковное облачение, антиминс и другие церковные атрибуты, тут же превратившиеся в улики. Отца Михаила забрали.
Ещё раньше в Бутырку из Малоярославца доставили отца Михаила Шика. В феврале у него в доме прошёл обыск. Трое одетых в штатское сотрудников ОГПУ пришли во время обеда, объявили, что у них имеется ордер «на обыск». Но Шик прочёл в документе: «на обыск и арест». Сотрудники не зверствовали, вели себя сдержанно. Осмотрели книги, не нашли ничего запрещённого и уже собирались уходить. На выходе попросили священника показать им паспорт. Документы хранились в пристройке, которую трое в штатском до этого не заметили и не осмотрели. Потайную комнату Шик выдал сам. Обыск начался заново. В пристроенном кабинете быстро нашли церковное облачение, антиминс и другие церковные атрибуты, тут же превратившиеся в улики. Отца Михаила забрали.
Михаил Шик
На следующий день его жена, Наталья Шаховская, уже сидела в поезде на Москву – ехала в столицу, чтобы сообщить о случившемся родственникам и близким друзьям мужа. Вдруг в её вагон под конвоем ввели самого Шика, посадили в противоположном конце. Заговорить Наталья и Михаил не решались, только обменивались взглядами. Шаховская подышала на стекло и на запотевшем окне написала пальцем что-то неразборчивое, возможно, понятное только Шику. В ответ он сделал то же самое, но вместо слов вывел на исцарапанном стекле – крест.
Иереи Михаил Шик, Сергей Сидоров, Пётр Петриков и иеромонах Андрей Эльбсон, а также десять женщин проходили по одному уголовному делу «группы епископа Арсения Жадановского» и обвинялись в создании «контрреволюционной нелегальной монархической организации церковников "Истинно-православная церковь"». Также всем обвиняемым вменялось участие в нелегальных выборах нового главы Церкви. Сидоров шёл по делу как «руководитель Владимирского, Муромского и Киржачского филиалов этой организации». Об этом отец Сергий узнал на первом допросе 11 июня 1937 года, спустя два месяца пребывания в камере. Из всех предъявленных обвинений он согласился лишь с одним: проводил нелегальную панихиду на Ваганьковском кладбище, где была похоронена Вера Ладыгина – женщина, воспитавшая маленького Сергея после смерти его матери. Память о «мамочке» священник не хотел стирать даже с протоколов допроса. Этих показаний для органов Госбезопасности оказалось достаточно: восемь человек из четырнадцати были приговорены к «высшей мере наказания».
Их разбудили ночью 27 сентября: в камеры зашли конвоиры, вывели во двор тюрьмы, построили, провели перекличку, после чего стали грузить в ожидающие автозаки. Вместо опознавательных знаков на кузовах машин были надписи «ХЛЕБ» или «МЯСО». Таким способом заключённых скрыто перевозили по столице, не нарушая спокойствия советских граждан. У арестованных дурной приметой считалось оказаться в «МЯСЕ». На вопросы, куда и зачем их везут, надсмотрщики не отвечали – было запрещено приказом. Наполненные автозаки, разрезая фарами тьму, быстро выехали из Москвы и колонной двинулись по Варшавскому шоссе в сторону посёлка Дрожжино.
Иереи Михаил Шик, Сергей Сидоров, Пётр Петриков и иеромонах Андрей Эльбсон, а также десять женщин проходили по одному уголовному делу «группы епископа Арсения Жадановского» и обвинялись в создании «контрреволюционной нелегальной монархической организации церковников "Истинно-православная церковь"». Также всем обвиняемым вменялось участие в нелегальных выборах нового главы Церкви. Сидоров шёл по делу как «руководитель Владимирского, Муромского и Киржачского филиалов этой организации». Об этом отец Сергий узнал на первом допросе 11 июня 1937 года, спустя два месяца пребывания в камере. Из всех предъявленных обвинений он согласился лишь с одним: проводил нелегальную панихиду на Ваганьковском кладбище, где была похоронена Вера Ладыгина – женщина, воспитавшая маленького Сергея после смерти его матери. Память о «мамочке» священник не хотел стирать даже с протоколов допроса. Этих показаний для органов Госбезопасности оказалось достаточно: восемь человек из четырнадцати были приговорены к «высшей мере наказания».
Их разбудили ночью 27 сентября: в камеры зашли конвоиры, вывели во двор тюрьмы, построили, провели перекличку, после чего стали грузить в ожидающие автозаки. Вместо опознавательных знаков на кузовах машин были надписи «ХЛЕБ» или «МЯСО». Таким способом заключённых скрыто перевозили по столице, не нарушая спокойствия советских граждан. У арестованных дурной приметой считалось оказаться в «МЯСЕ». На вопросы, куда и зачем их везут, надсмотрщики не отвечали – было запрещено приказом. Наполненные автозаки, разрезая фарами тьму, быстро выехали из Москвы и колонной двинулись по Варшавскому шоссе в сторону посёлка Дрожжино.
Там находился спецобъект «Бутово» – стрелковый полигон сотрудников НКВД, расположившийся на территории бывшей подмосковной усадьбы. Накануне Первой мировой войны её приобрёл орехово-зуевский промышленный магнат Иван Иванович Зимин и построил вместо неё конный завод. Директором стал племянник магната – Иван Леонтьевич Зимин, который в 1915 году ушёл на фронт, получил за боевые заслуги Георгиевский крест, но вернулся с тяжёлым ранением и зависимостью от морфия. Болезнь разрушила его семейные отношения. Несмотря на судьбу руководителя, конный завод вырос, и стал одним из одиннадцати крупнейших в центральной России. Зимин оставался управляющим и при советской власти. Правда, уже в 1930-м его обвинили в растратах и заключили в Бутырскую тюрьму. Суд оправдал коннозаводчика, но всё его состояние ушло на хороших адвокатов, и через несколько лет Зимин умер в нищете. А территория бывшей усадьбы в 1934 году перешла во владение хозяйственного управления НКВД. В стране продолжался голодомор, сотрудникам Ведомства требовалось продуктовое обеспечение, поэтому на месте конного завода организовали огородное хозяйство. Но двухкилометровую зону в самом центре никто не засеивал: её обнесли забором и стали там практиковаться в стрельбе. С 1937-го стреляли не по мишеням – Бутовский полигон начали использовать для расстрела и захоронения, приговорённых к «высшей мере наказания».
Дверь автозака с тяжёлым лязгом раскрылась. Была всё ещё глубокая ночь, и Сергий Сидоров не мог разглядеть, кто перед ним стоит. Пассажиров выводили по одному. Выпрыгивая из машины, они должны были назвать свои имя, год рождения и статью. Офицеры, стоящие снаружи, светили им в лица фонариками, сверяли с фотографией из уголовного дела, после чего ставили карандашом галочку напротив фамилии в списке и вели осуждённых в восьмидесятиметровый деревянный барак. Тогда в нём собрали 272 человека. Они, истощённые бессонными ночами, голодом и допросами, медленно шатались и никак не могли понять, что от них хотят. Но за любую заминку тут же получали удар от стоящего рядом вооружённого конвоира.
— Петриков Пётр Сергеевич, 1903 года рождения, 58.10 – Сидоров услышал где-то вдалеке голос старого друга.
Спустя несколько минут очередь дошла до него самого. В свете фонарика сверили лицо с фотографией в документах. Всё было верно. Напротив фамилии в списке появилась галочка.
— Шик Михаил Владимирович, 1887 года рождения, 58.10 – послышался позади ещё один знакомый голос.
Перекличка закончилась. Никаких ошибок сотрудники НКВД не допустили, все были на месте, никто не сбежал. К заключённым вышел офицер, громким голосом объявил: «Вы приговорены к "высшей мере наказания"». Говорил что-то ещё, но все остальные слова не имели значения, не помещались в голове, прибитой одной короткой фразой.
На рассвете их стали по одному выводить из барака. Когда кто-то выходил, через несколько минут слышался одиночный выстрел. Возвращались за следующим. Кажется, мимо Сидорова провели отца Арсения Жадановского. Потом забрали и его самого. Подталкиваемый в спину, священник шёл рывками – ноги не слушались. Подвели к вырытому рву, поставили у края, лицом к яме. На глубине виднелась свежая насыпь земли, из-под неё торчали обрывки одежды, копошились насекомые. Трупный запах сбивал с толку, прогонял сознание. Позади священника клацнул затвор пистолета.
Спустя несколько минут очередь дошла до него самого. В свете фонарика сверили лицо с фотографией в документах. Всё было верно. Напротив фамилии в списке появилась галочка.
— Шик Михаил Владимирович, 1887 года рождения, 58.10 – послышался позади ещё один знакомый голос.
Перекличка закончилась. Никаких ошибок сотрудники НКВД не допустили, все были на месте, никто не сбежал. К заключённым вышел офицер, громким голосом объявил: «Вы приговорены к "высшей мере наказания"». Говорил что-то ещё, но все остальные слова не имели значения, не помещались в голове, прибитой одной короткой фразой.
На рассвете их стали по одному выводить из барака. Когда кто-то выходил, через несколько минут слышался одиночный выстрел. Возвращались за следующим. Кажется, мимо Сидорова провели отца Арсения Жадановского. Потом забрали и его самого. Подталкиваемый в спину, священник шёл рывками – ноги не слушались. Подвели к вырытому рву, поставили у края, лицом к яме. На глубине виднелась свежая насыпь земли, из-под неё торчали обрывки одежды, копошились насекомые. Трупный запах сбивал с толку, прогонял сознание. Позади священника клацнул затвор пистолета.
Когда-то давно, совсем в другой жизни, отец Сергий написал в своих записках: «Смерть не только является окончанием земного бытия, она после грехопадения первых людей является силой, освящающей землю. Кровь пролитая очищает грех, ослабляет его силу над человеком».
Ворота Бутовского полигона
Татьяна Арцыбушева так и осталась в Муроме, продолжая заниматься нелегальными церковными службами. Она покинула дом на улице Лакина лишь перед самой смертью в 1942 году, поступив на лечение в московский диспансер. Домашние церкви так и не были разрешены ни при её жизни, ни после: в 1946-м её сына Алексея арестовали за участие в православном подполье и приговорили к шести годам лагерей. Отбыв срок до конца, он был сослан в Инту «на вечное поселение», но прожил там только четыре года – его реабилитировали в 1956 году, и он поселился в Москве, где продолжил карьеру художника. Старший сын Серафим во время войны пропал без вести в боях под Ленинградом. О том, что всё это время их мать Татьяна была тайной монахиней Таисией, принявшей постриг в Даниловом монастыре, они узнали только из её предсмертных записок.
Татьяна Сидорова, через три месяца после ареста отца Сергия, родила пятого ребёнка – мальчика в честь отца назвали Серёжей. Он был очень нервным ребёнком, начинал заливаться криками, если его спускали с рук. Поэтому Серёжу не взяли в ясли, и старшим детям приходилось по очереди с ним нянчится. Мать в это время работала медсестрой на две смены: в медпункте, а затем ещё в поликлинике. Три ставки, восемнадцать часов в день без выходных и отпусков. Во время войны соседи думали, что её эвакуировали из блокадного Ленинграда: она спала по три-четыре часа в сутки, практически не ела, только пила горячую воду, спала на сундуке, «чтобы не проспать». Зато дети выросли здоровыми и пережили войну. Они не отступились от отца и его веры, никогда не были ни пионерами, ни комсомольцами, но всё равно получили высшее образование и благополучно устроились в жизни. Последние годы их мать прожила без нужды – уже благодаря своим выросшим детям – и всё не переставала верить, что её муж жив и однажды вернётся. Ведь в 1937 году ей сообщили, что Сидоров был приговорён к десяти годам лагерей без права переписки. Только этой надеждой и жила Татьяна оставшиеся годы, а когда весной 1956-го прочитала известие о реабилитации мужа и узнала, что он уже двадцать лет как мёртв, не выдержала и скончалась.
Клавдия Устинова действительно ждала отца Павла до самой смерти. Она чуть ли не каждый вечер, сидя одна в комнате, перечитывала письма и стихи мужа. Так она будто чувствовало его присутсвие рядом с собой, представляла, как он стоит у комода и глядит на неё грустными глазами. Иногда Клавдия видела его настолько ясно, что становилось жутко, и она выбегала из комнаты. О смерти отца Павла жена узнала только в 1956 году, когда ей неожиданно пришла справка из Президиума Владимирского облсуда о реабилитации Устинова за отсутствием состава преступления. С этой вестью Клавдия прожила лишь до 1961 года, и была похоронена детьми на сельском кладбище Брутова во Владимирской области.
Наталья Шаховская получила такую же справку: «Выслан в дальние лагеря без права переписки» после долгих хождений по московским тюрьмам в поисках информации о муже. Затем она стала писать запросы во все известные ей трудовые лагеря, но из них приходили отрицательные ответы. В доме Шика копились открытки – форменные, отпечатанные по-типографски и менее официальные, с советом обратиться в другой лагерь – из Севвостлага, из отделения УНКВД по Архангельской области, из Дальлага и других. Но надежда не угасала, тем более, что появился след: один священник в письме своим родным рассказывал, как ехал по этапу в среднеазиатские лагеря вместе с отцом Сергием Сидоровым и отцом Михаилом Шиком. Дмитрий, сын Шика, поехал за отцом в Казахстан, и там ему рассказали о двух священниках, живших в юрте, но на этом поиски зашли в тупик. Искал отца Михаила и академик Владимир Вернадский, друг семьи. В декабре 1943 года он послал запрос о судьбе Михаила Шика на имя всё того же Михаила Калинина. Через месяц по телефону снова сообщили неправду: «М.В. Шик умер 26 сентября 1938 года в дальнем лагере вскоре после приезда туда». Но даже этого Наталья уже не узнала – она скончалась в 1942-м от туберкулёза горла и лёгких, будучи в немецкой оккупации. Умирая, она всё ещё верила, что муж жив, и своё последнее письмо писала на его имя: «Июнь 1942 г. Дорогой мой, бесценный друг, вот уже и миновала последняя моя весна. А Ты? Всё ещё загадочна, таинственна Твоя судьба, всё ещё маячит надежда, что Ты вернёшься, но мы уже не увидимся, – а так хотелось Тебя дождаться. Но не надо об этом жалеть. Встретившись, расставаться было бы ещё труднее, а мне пора...». Даже в годы войны Шаховская не бросила дело мужа: в потайной комнате Шика продолжали совершать литургии, но уже другие священники.
ТЕКСТ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
ИЛЛЮСТРАЦИИ:
ФОТОГРАФИИ:
ДИЗАЙН И ВЁРСТКА:
ИСТОРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:
ИЛЛЮСТРАЦИИ:
ФОТОГРАФИИ:
ДИЗАЙН И ВЁРСТКА:
2020
geschernozem@bk.ru
geschernozem@bk.ru
- Арцыбушев А.П. Милосердия двери. Автобиографический роман узника ГУЛАГа. – М.: Никея, 2016. – изд. 2-е, исправленное. – с 464.
- Арцыбушев А.П. Часть 1: «Всё, что можно было съесть, было в наших руках» | фильм #191 МОЙ ГУЛАГ. – [электронный ресурс] (дата обращения 17.10.2020)
- Беглов А.Л. В поисках «безгрешных катакомб». Церковное подполье в СССР - Москва: Политическая энциклопедия, 2018. – 352 с.
- Гарькавый И.В. Бутовский Полигон – одно из самых ужасных и святых мест на земле. Об истории этого места рассказывает Игорь Гарькавый. – [электронный ресурс] (дата обращения: 17.10.2020)
- Журинская М.А. Земля святая. О подмосковном «полигоне» в посёлке Бутово, месте массовых расстрелов в 1937 г. // Альфа и Омега. М., 1997. – № 2 (13). – С. 178-189.
- Из дневника отца Павла (П. С. Устинова) // Трагедия России – судьбы ее граждан: Воспоминания о репрессиях / Владимирск. регион. отд-ние рос. о-ва «Мемориал». «Статус кво полиграфия», 2004. – с. 94-97.
- Кочетов Д. Б. Арсений // Православная энциклопедия. – М. : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2001. – Т. III. – С. 399-401. – 752 с.
- Митрофанов Г.Н. Цикл лекций «История Русской Православной Церкви. XX век». - [электронный ресурс] (дата обращения 17.10.2020)
- Открытый список: Андрей (Эльбсон Борис Яковлевич) (1896). – [электронный ресурс] (дата обращения: 18.10.2020)
- Открытый список: Петриков Петр Сергеевич (1903). – [электронный ресурс] (дата обращения: 18.10.2020)
- Открытый список: Сидоров Сергей Алексеевич (1895). – [электронный ресурс] (дата обращения: 18.10.2020)
- Открытый список: Устинов Павел Сергеевич (1890). – [электронный ресурс] (дата обращения: 18.10.2020)
- Открытый список: Шик Михаил Владимирович. – [электронный ресурс](дата обращения: 18.10.2020)
- Павел и Клавдия. Дневники супруги русского священника. – Тула: Гриф и К, 2012. – 560 с.
- Раевский С. П. Пять веков Раевских. – М. : Вагриус, 2005. – 592 с. : портр., ил.
- Сайт Сертенской церкви г. Мурома. – [электронный ресурс] (дата обращения: 17.10.2020)
- Сард М., Росси Ж. Жак-француз. В память о ГУЛАГе. – М: Новое литературное обозрение, 2019. – 392 с.
- Священник Сергий Сидоров и его семья. – [электронный ресурс] (дата обращения 17.10.2020)
- Сидоров С.А. Записки священника Сергия Сидорова : С прил. его жизнеописания, сост. дочерью, В. С. Бобринской. – М.: Православ. Свято-Тихонов. Богослов. Ин-т, 1999. – 296 с.
- Фролов П. Откровения палача с Лубянки. Кровавые тайны 1937 года. – М.: Эксмо, 2011. – 256 с.
- Шик Е. Воспоминания об отце. – [электронный ресурс] (дата обращения: 17.10.2020)
1. митрополит Пётр Полянский
2. Патриарх Тихон
3. митрополит Сергий Страгородский
4. «Вместо очага дурмана – дворец»
5. Пётр Арцыбушев
6. с.Дивеево, 1927 год
7. Часовня на месте источника Серафима Саровского, 1900-е годы
8. с.Дивеево
9. Андрей Эльбсон
10. г.Муром. Ивановская улица. Фото Н.Н. Сажина. 1929 год
11. г.Муром. Троицкий монастырь. Фото А.М. Дианова. 1934 год. Из цифрового архива А.Р. Комлева
12. г.Муром. Митинг у памятника В.И. Ленину перед Троицким монастырем. 7 Ноября 1932 г. Из цифрового архива А.Р. Комлева
13. Павел Устинов
14. Клавдия Устинова
15. г.Владимир, 1929 год
16. г.Муром. Ярмарка на Соборной площади. Фото И.С. Кузнецова. 1929 год
17. г.Муром. Рождественская ул. Скверик перед будущей школой № 3 Из фото-архива Беспалова А.Н.
18. г.Муром. Группа детей на склоне у Космодемианской церкви. 1920-е годы
19. Разорение храма
20. Закрытие храма
21. Дом Михаила Шика в Малоярославце
22. Татьяна Кандиба
23. г.Муром. Магазин №1. Отдел игрушек. 1930-е годы
24. г.Муром, ул.Советская, 46. 1936 год
25. г.Муром. Митинг у памятника В.И. Ленину перед Троицким монастырем. 1 Мая 1937 г. Из цифрового архива А.Р. Комлева
26. Михаил Шик, 1926 год. Из семейного архива Шиков-Шаховских
27. Дом Михаила Шика
28. Ворота Бутовского полигона
2. Патриарх Тихон
3. митрополит Сергий Страгородский
4. «Вместо очага дурмана – дворец»
5. Пётр Арцыбушев
6. с.Дивеево, 1927 год
7. Часовня на месте источника Серафима Саровского, 1900-е годы
8. с.Дивеево
9. Андрей Эльбсон
10. г.Муром. Ивановская улица. Фото Н.Н. Сажина. 1929 год
11. г.Муром. Троицкий монастырь. Фото А.М. Дианова. 1934 год. Из цифрового архива А.Р. Комлева
12. г.Муром. Митинг у памятника В.И. Ленину перед Троицким монастырем. 7 Ноября 1932 г. Из цифрового архива А.Р. Комлева
13. Павел Устинов
14. Клавдия Устинова
15. г.Владимир, 1929 год
16. г.Муром. Ярмарка на Соборной площади. Фото И.С. Кузнецова. 1929 год
17. г.Муром. Рождественская ул. Скверик перед будущей школой № 3 Из фото-архива Беспалова А.Н.
18. г.Муром. Группа детей на склоне у Космодемианской церкви. 1920-е годы
19. Разорение храма
20. Закрытие храма
21. Дом Михаила Шика в Малоярославце
22. Татьяна Кандиба
23. г.Муром. Магазин №1. Отдел игрушек. 1930-е годы
24. г.Муром, ул.Советская, 46. 1936 год
25. г.Муром. Митинг у памятника В.И. Ленину перед Троицким монастырем. 1 Мая 1937 г. Из цифрового архива А.Р. Комлева
26. Михаил Шик, 1926 год. Из семейного архива Шиков-Шаховских
27. Дом Михаила Шика
28. Ворота Бутовского полигона